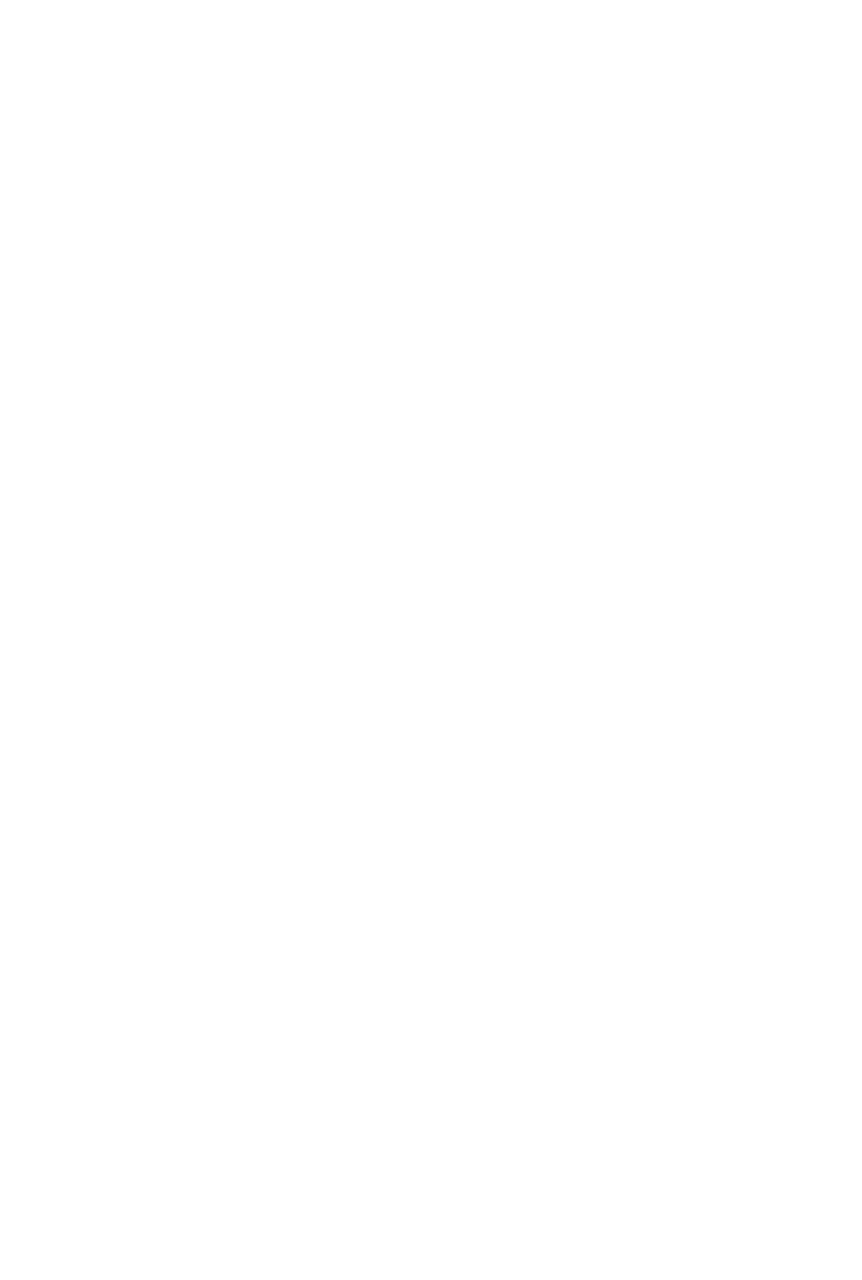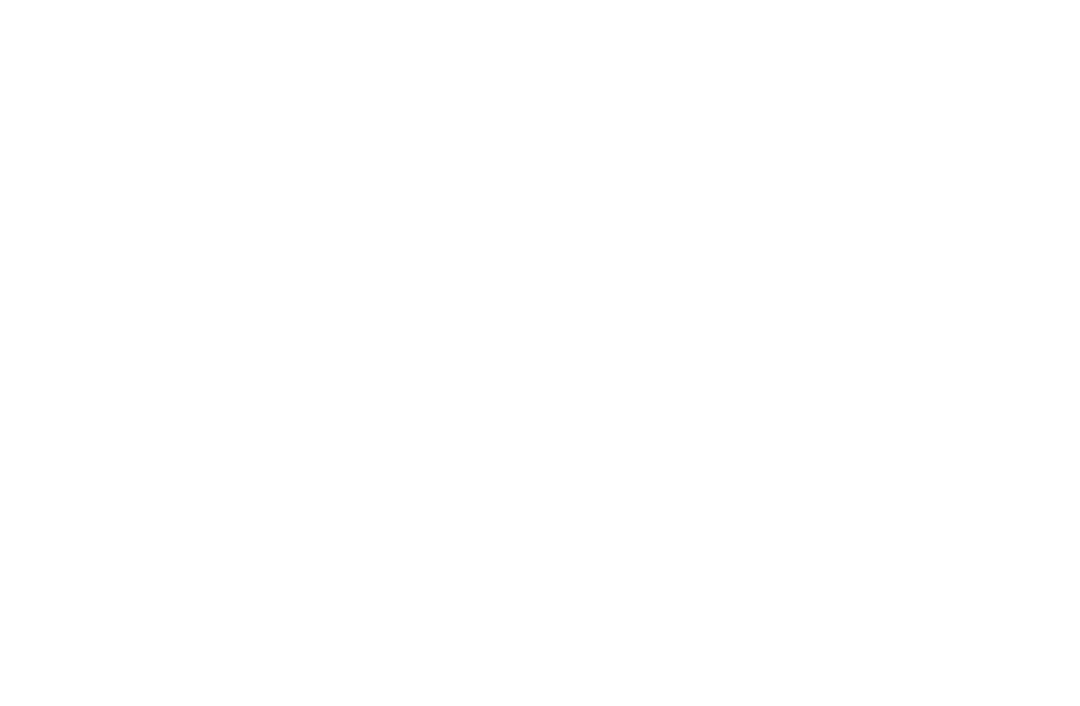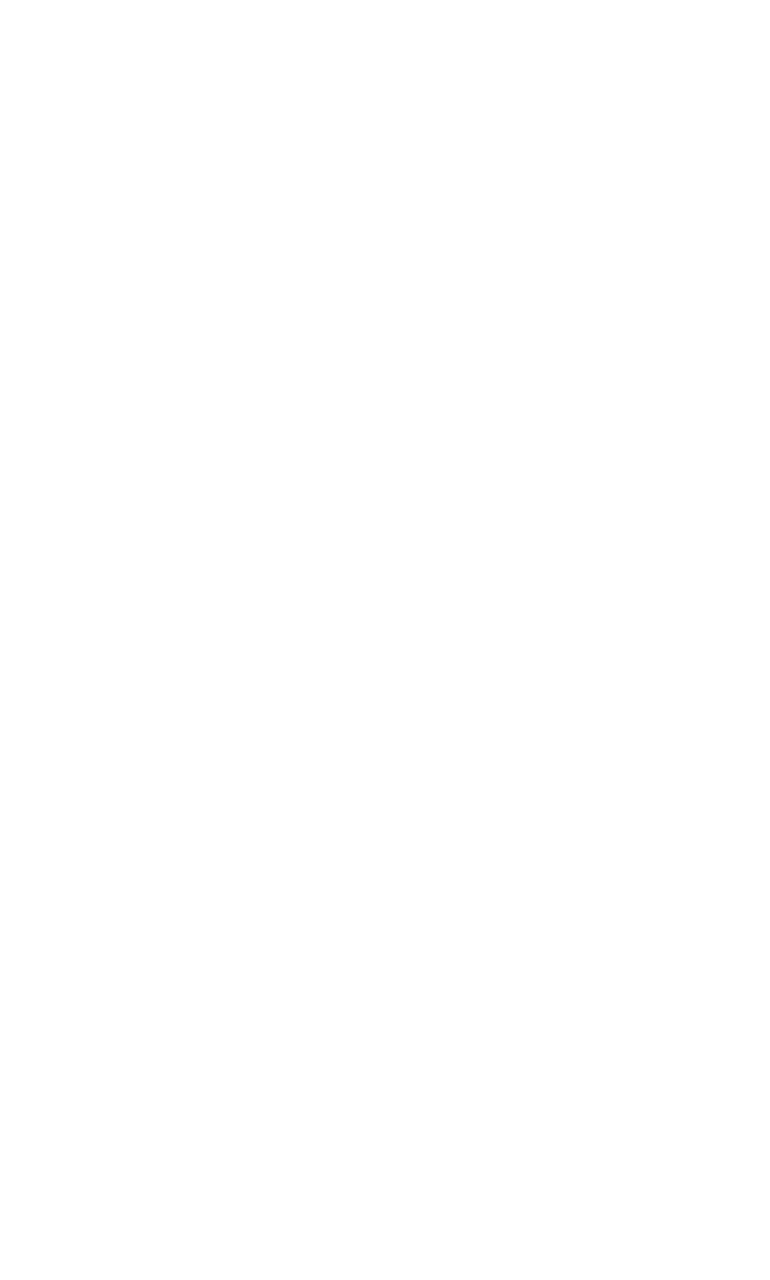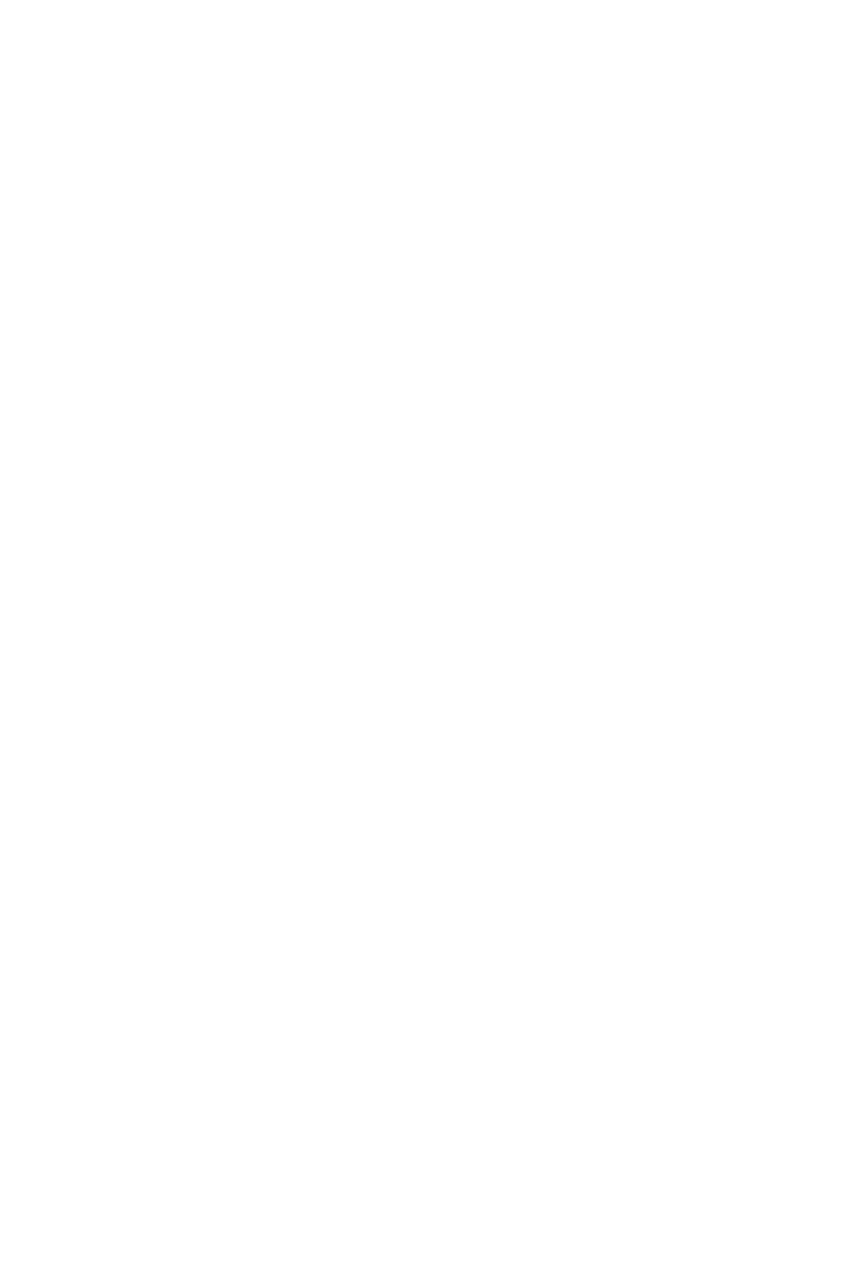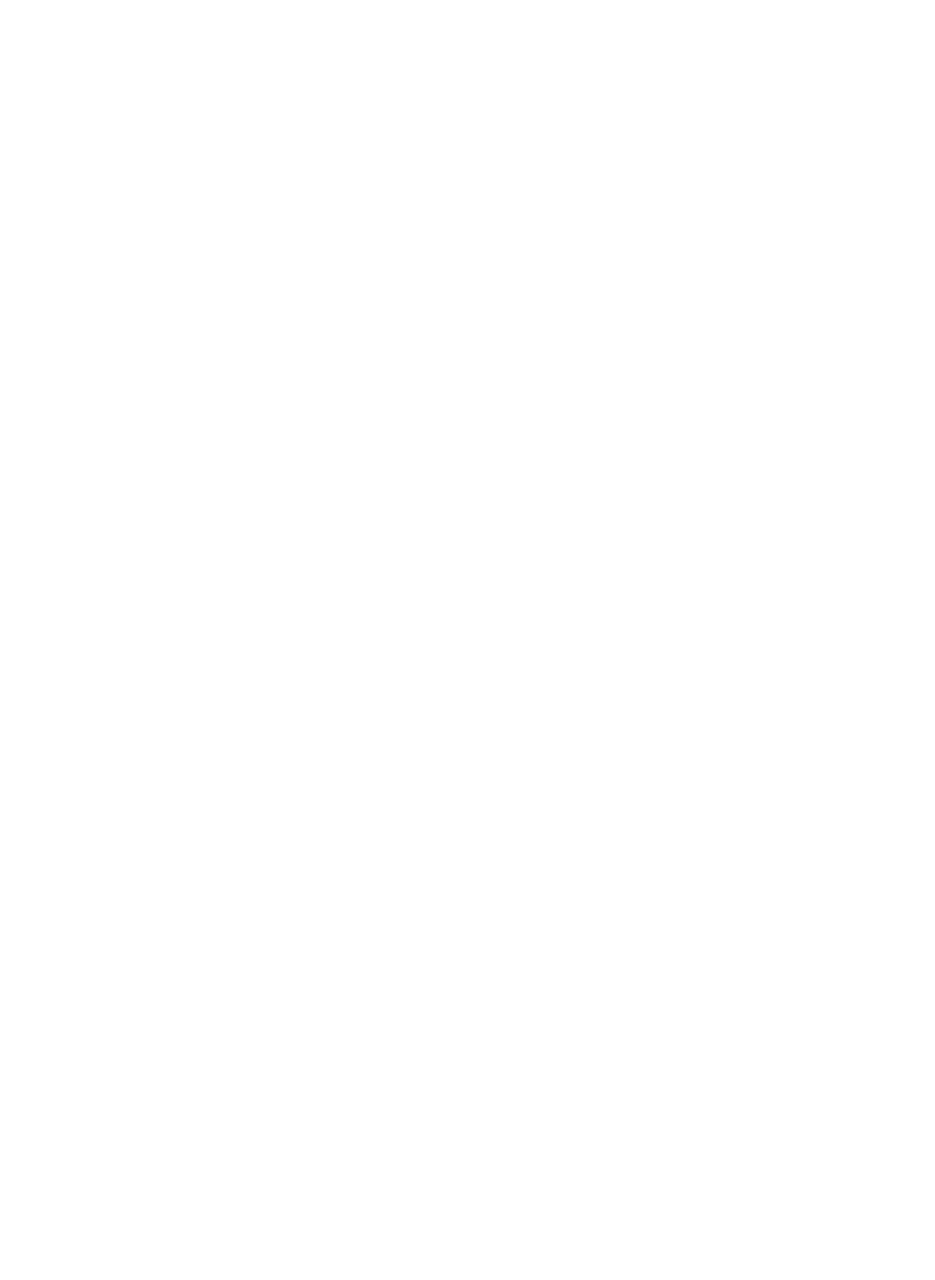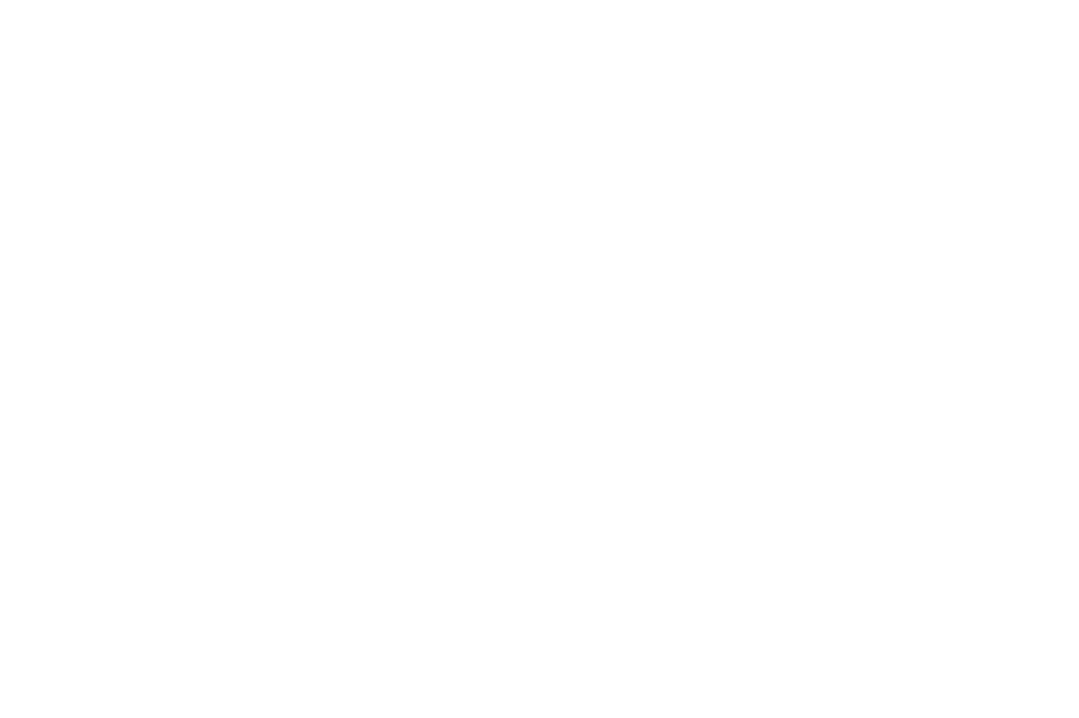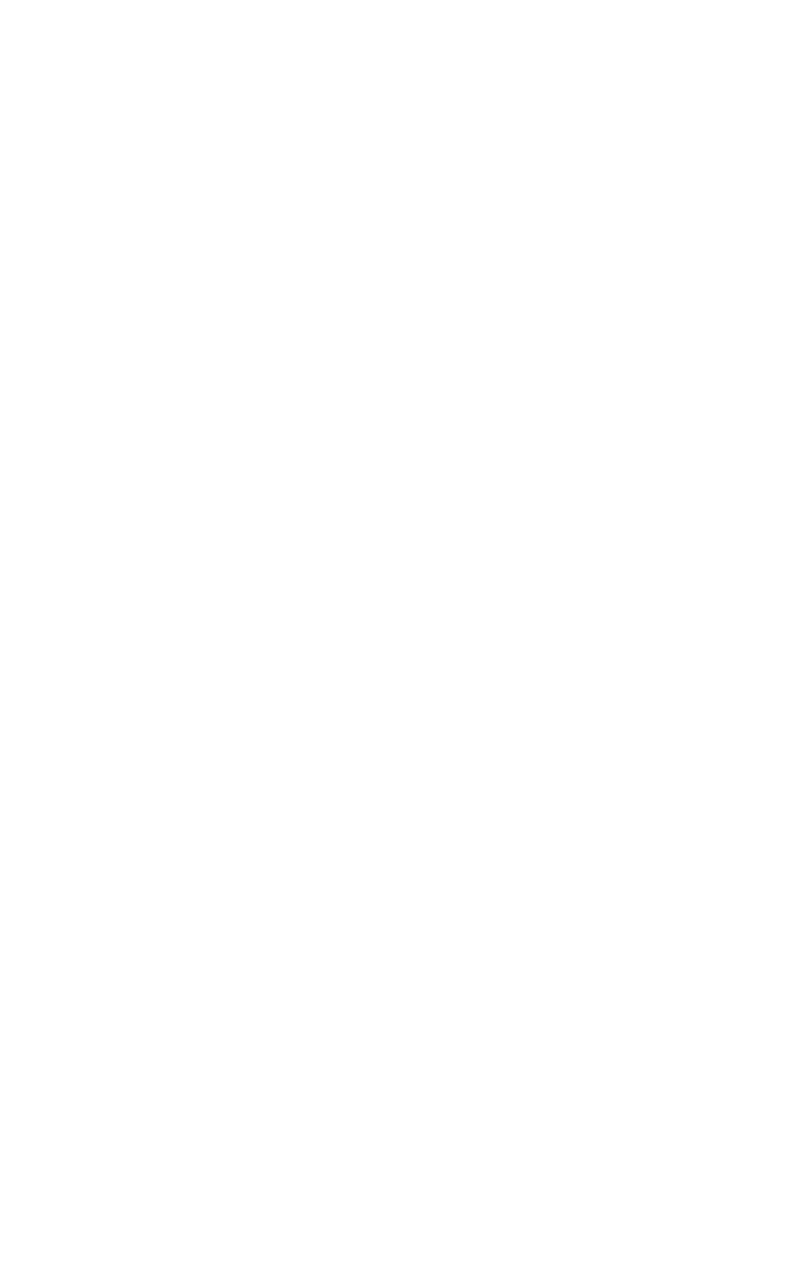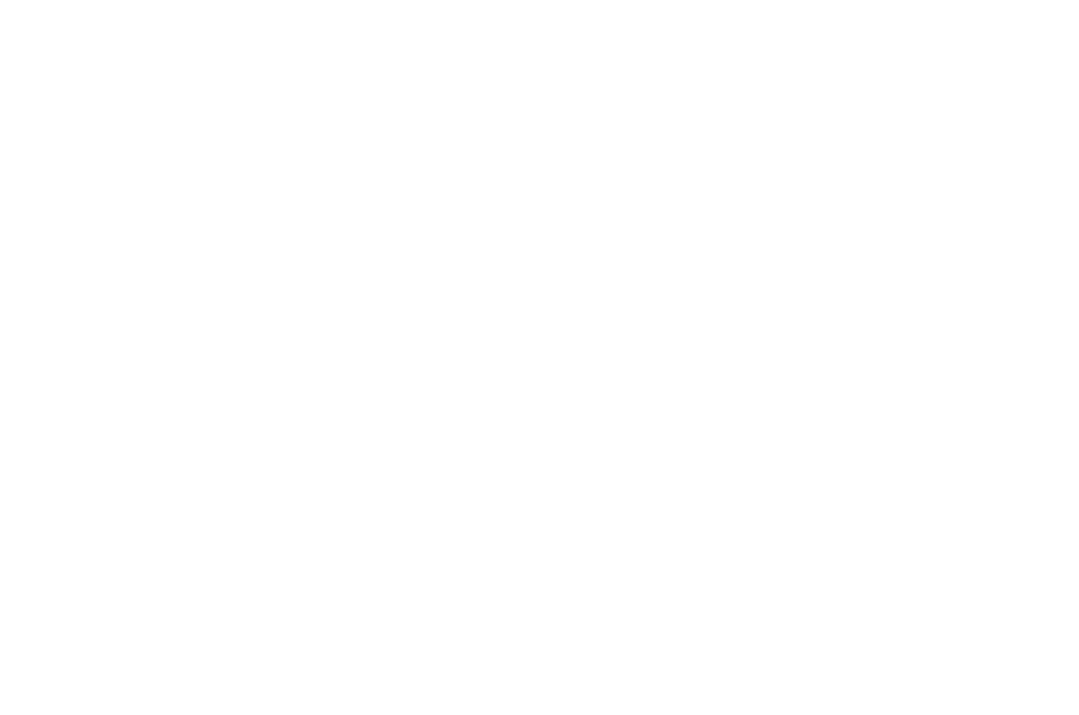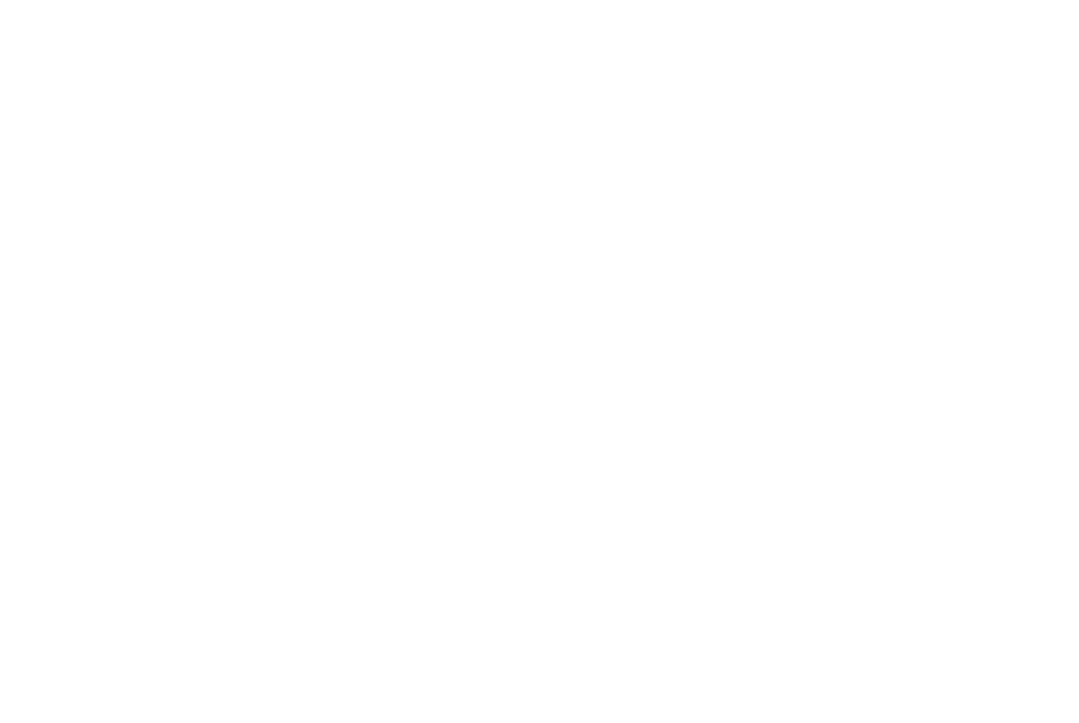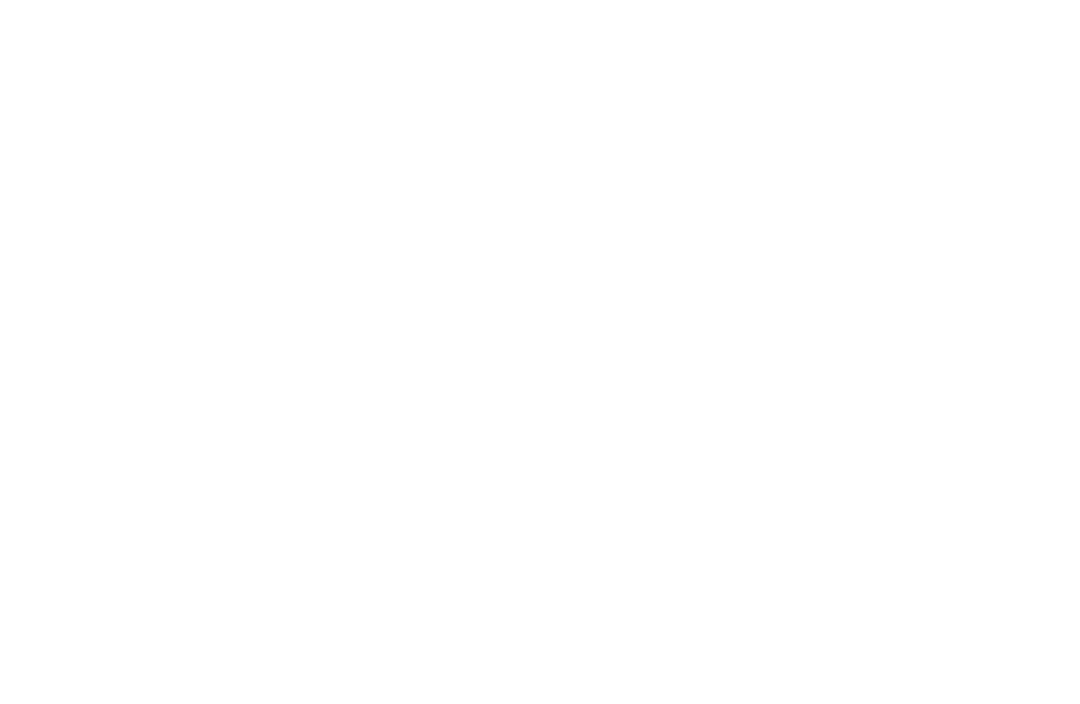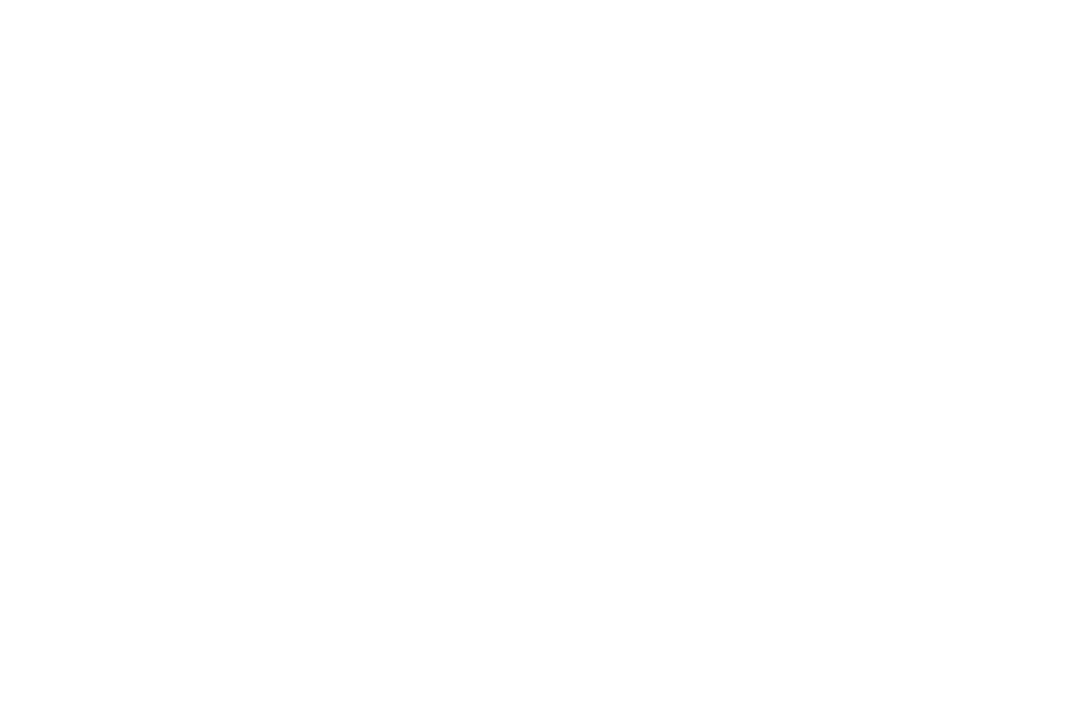Мы сидим в комнате
Главной премьерой Context. Diana Vishneva 12-го сезона стала «Белая комната» — совместное сочинение куратора труппы, хореографа Павла Глухова и композитора Владимира Мартынова, который уже много лет как провозгласил кончину своей профессии, но продолжает писать, в том числе на заказ.
Тата Боева отправилась на ноябрьские показы в «Зарядье» и в ожидании новых показов в другом пространстве, Концертном зале имени Чайковского, рассказывает, почему как минимум в танце время композиторов набирает силу и насколько разными могут быть союзы сочинителей движений и музыки.
Рассказывая о работе над «Белой комнатой», Владимир Мартынов скромничал: дескать, хореограф дал план, я уехал на каникулы и, ничего не зная о постановке, по заказанному написал. Балетный композитор XIX века, который разве что не сочиняет «под ноги». Однако, несмотря на отрезвляющую честность Мартынова, называющего вещи своими словами, верить ему до конца не стоит. И не только потому, что живой классик века XX-го не снизошёл бы до чистой работы по сценарию. В конце концов, Чайковского не принизила работа по сценариям Петипа. А скорее из-за того, что видимый результат союза явно сложнее, чем отношения «хореограф, который знает, что ему нужно, плюс композитор, который делает, что запросили».
Чтобы расположить «Белую комнату» Мартынова и Глухова в истории танцевально-музыкальных тандемов, стоит сперва отвлечься на то, какими бывали дуэты «хореограф и композитор». Начались они с заведомо урегулированных отношений XIX века. Хореограф предоставлял чёткий, расписанный по сценам, план танцев, указывал темпы и настроения. Композитор в меру даровитости их исполнял, буквально выполнял ТЗ. В стандартных удачных случаях выходила, например, минкусовская «Баядерка». Музыка сама по себе невеликая и не вышедшая за пределы театральных залов Однако настолько крепко спаянная с хореографией, что её можно смело слушать отдельно, если хочется нафантазировать идеальное исполнение и не отвлекаться на реальных танцовщиков и версии, которые могут быть не самыми лучшими. Нестандартные удачи рождали, например, «Лебединое озеро» — сочинение, переросшее балет и ставшее отдельным феноменом, отделённым от любых пластических версий.
В XX веке для музыки к танцу обнаружились разнообразные пути. Столетие концептуально начала «Весна священная». Игорь Стравинский не только написал анти-музыку для ног, вещь, исполнители которой до сих пор полагаются на сложный счёт, чтобы выдержать этот марафон, но и показал, что одноактный балет может стать самостоятельной пьесой, живущей две автономные жизни: на пластической сцене и в концертных залах. Параллельно хореографы начали обращаться к сочинениям, которые не были предназначены им, вывели на сцену симфоническую музыку. Тогда, возможно, впервые аудиальная часть перестала быть удобной подпоркой для танца и стала равноправным партнёром — не всегда согласным, не всегда покладистым. Автономным, продвигающим свою адженду. В то же время, чуть выждав, композиторы вновь взялись за музыку «для ног» — в виде драмбалетов., Она, конечно, обслуживала сцену, но лучшие образцы уже во многом ориентировались на симфонические образцы.
Ещё одной особой главой стало взаимодействие танца и авторов-минималистов — мы уже почти подошли к «Белой комнате». Композиторы, которые работали с пьесами, где долго-долго, нарочито медитативно, повторялся маленький сегмент, стали хорошими товарищами танцу. В первую очередь ровный звуковой фон оценили люди из контемпорари данс, а позже к ним присоединились и балетные. Один из легендарных примеров — Анна Тереза де Кеерсмакер, её компания Rosas и классик минимализма Стивен Райх. Райх закольцовывал простые кусочки звуков. Кеерсмакер — обыкновенные, почти бытовые, принципиально повторимые движения. Так музыка и танец манифестировали принцип: акт творчества не обязан быть сложным. Даже если сложить двух больших авторов.
Ещё позже, уже в 2000-е, пришла пора союза неоклассиков: эмоциональный, легко подключающий, сентиментальный Макс Рихтер почти слился с нарочито отстранённым, механистичным, пиротехничным Уэйном МакГрегором. Музыка получила ещё одну функцию: обеспечивать чувственный накал, очеловечивать хореографию, которая давно перешла к самым формальным экспериментам и рисковала потерять контакт с основной аудиторией, которая не готова получать удовольствие только от ровности рядов, геометрии и числа артистов.
В XX веке для музыки к танцу обнаружились разнообразные пути. Столетие концептуально начала «Весна священная». Игорь Стравинский не только написал анти-музыку для ног, вещь, исполнители которой до сих пор полагаются на сложный счёт, чтобы выдержать этот марафон, но и показал, что одноактный балет может стать самостоятельной пьесой, живущей две автономные жизни: на пластической сцене и в концертных залах. Параллельно хореографы начали обращаться к сочинениям, которые не были предназначены им, вывели на сцену симфоническую музыку. Тогда, возможно, впервые аудиальная часть перестала быть удобной подпоркой для танца и стала равноправным партнёром — не всегда согласным, не всегда покладистым. Автономным, продвигающим свою адженду. В то же время, чуть выждав, композиторы вновь взялись за музыку «для ног» — в виде драмбалетов., Она, конечно, обслуживала сцену, но лучшие образцы уже во многом ориентировались на симфонические образцы.
Ещё одной особой главой стало взаимодействие танца и авторов-минималистов — мы уже почти подошли к «Белой комнате». Композиторы, которые работали с пьесами, где долго-долго, нарочито медитативно, повторялся маленький сегмент, стали хорошими товарищами танцу. В первую очередь ровный звуковой фон оценили люди из контемпорари данс, а позже к ним присоединились и балетные. Один из легендарных примеров — Анна Тереза де Кеерсмакер, её компания Rosas и классик минимализма Стивен Райх. Райх закольцовывал простые кусочки звуков. Кеерсмакер — обыкновенные, почти бытовые, принципиально повторимые движения. Так музыка и танец манифестировали принцип: акт творчества не обязан быть сложным. Даже если сложить двух больших авторов.
Ещё позже, уже в 2000-е, пришла пора союза неоклассиков: эмоциональный, легко подключающий, сентиментальный Макс Рихтер почти слился с нарочито отстранённым, механистичным, пиротехничным Уэйном МакГрегором. Музыка получила ещё одну функцию: обеспечивать чувственный накал, очеловечивать хореографию, которая давно перешла к самым формальным экспериментам и рисковала потерять контакт с основной аудиторией, которая не готова получать удовольствие только от ровности рядов, геометрии и числа артистов.
«Белая комната» — это встреча моделей взаимодействия Уэйна МакГрегора и Макса Рихтера, Анны Терезы де Кеерсмакер и Стива Райха, которая окончилась удачей для всех сторон
И мы снова в 2024 году. Москва, ноябрь, концертный зал «Зарядье». Мировая премьера «Белой комнаты». Композитор Владимир Мартынов, которого определяют как минималиста и последователя «новой простоты». Хореограф Павел Глухов, который сам говорит, что старается рассказывать истории с помощью средств современного танца, но долгое время был известен как автор поэтических спектаклей, где главной становилась атмосфера на сцене и ощущение от происходящего, от сочетания движения, композиции, света и среды, и называющий главным критерием честность.
Какой тип отношений композитора и хореографа мог возникнуть у таких авторов, учитывая всё перечисленное историческое? Логичный ответ — гибридный. Самое близкое определение — партнёрски-поддерживающий.
В «Белой комнате», безусловно, каждый из авторов самостоятелен и при этом не перетягивает одеяло на себя. Мартынов создал нейтральную, в хорошем смысле фоновую партитуру, а Глухов опирается на сочинённое им, отдаёт часть ответственности и позволяет музыке дополнять его хореографическое решение, расцвечивать его. «Белая комната» — это встреча моделей взаимодействия Уэйна МакГрегора и Макса Рихтера и Анны Терезы де Кеерсмакер и Стива Райха, которая окончилась удачей для всех сторон.
В «Белой комнате», безусловно, каждый из авторов самостоятелен и при этом не перетягивает одеяло на себя. Мартынов создал нейтральную, в хорошем смысле фоновую партитуру, а Глухов опирается на сочинённое им, отдаёт часть ответственности и позволяет музыке дополнять его хореографическое решение, расцвечивать его. «Белая комната» — это встреча моделей взаимодействия Уэйна МакГрегора и Макса Рихтера и Анны Терезы де Кеерсмакер и Стива Райха, которая окончилась удачей для всех сторон.
Чтобы разъяснить, как действует сочетание «музыка + движение» в «Белой комнате», можно разобрать одну конкретную сцену, которая показательнее всего отражает, как именно соприкасаются работа Мартынова и Глухова в одной постановке.
Здесь стоит вспомнить, что Rosas danst Rosas, одна из самых известных постановок Кеерсмакер, где использовалась как раз музыка Райха, в наше время получила новую жизнь как интернет-феномен — люди сами повторяли танец из видео и запустили так флешмоб.
«Новая простота» — термин, которым определяют течение в музыке, которое существовало прежде всего в Германии в 1970-1980-е годы. Сущность взглядов последователей «новой простоты» — упрощение музыкального выражение, отход от мысли, что музыка должна быть изощрённым интеллектуальным инструментом, и её возвращение к прямой коммуникации со слушателями. В СССР и России последователями «новой простоты», помимо Мартынова, считали Валентина Селивёрстова, Арво Пярта, Эдуарда Артемьева.
Нарочито дегуманизированная, основанная на демонстрации технических высот хореография МакГрегора с помощью очень эмоциональной музыки Макса Рихтера становится более проникновенной, имитирует рассказ истории о чувствах.
Два автономных автора, чьи идеи похожи.
Аббревиатура OG означает «original gangster», ею обозначают или персону, с которой начался некий тренд, или ценного представителя тренда.
На показе спектакля 24 февраля в КЗЧ в дуэте выступит Роман Осипов
Дуэт Любови Савчук и Александра Носова композиционно и идейно находится в центре «Белой комнаты». Если бы в современном танце можно было бы говорить о па-де-де, это было бы оно. Мы примерно в финале второго акта. Влюблённые преодолели испытания, соединились, но ещё не празднуют. Это момент их чувств в чистом виде. Не формальный церемонный праздник, свадьба с гостями, бесконечный дивертисмент, а личное время, признание.
В «Белой комнате» нет декораций — не считать же ими белый экран — но есть цифровая среда, созданная видеохудожником Алексеем Бычковым, которая меняется от сегмента к сегменту. Для дуэта Любови Савчук и Александра Носова он создал мир почти что классического балета, что-то вроде ожившей гравюры, по мотивам которой могли бы сочинить первый акт «Лебединого озера». Природа. Камень. Бьющий тонкими струйками свет. Всё передано лёгкими, подвижными штрихами, которые намечают живой, земной и в то же время в чём-то иллюзорный, пасторальный, фантастический пейзаж. Возвышенный и страстный.
В «Белой комнате» нет декораций — не считать же ими белый экран — но есть цифровая среда, созданная видеохудожником Алексеем Бычковым, которая меняется от сегмента к сегменту. Для дуэта Любови Савчук и Александра Носова он создал мир почти что классического балета, что-то вроде ожившей гравюры, по мотивам которой могли бы сочинить первый акт «Лебединого озера». Природа. Камень. Бьющий тонкими струйками свет. Всё передано лёгкими, подвижными штрихами, которые намечают живой, земной и в то же время в чём-то иллюзорный, пасторальный, фантастический пейзаж. Возвышенный и страстный.
Для дуэта Любови Савчук и Александра Носова композитор создал мир почти что классического балета, что-то вроде ожившей гравюры, по мотивам которой могли бы сочинить первый акт «Лебединого озера»
Такой же танец сочинил и Павел Глухов. Этот дуэт — разом и целомудренный, и эротичный, откровенный, и торжественный. Будто Любовь Савчук — Прекрасная дама, а Александр Носов — поэт, её рыцарь, коллизия Серебряного века. Роскошные распущенные волосы Любови, которые присутствуют в танце как отдельный персонаж, развиваются, опадают, то скрывают лицо как брачное покрывало перед венчанием, то распадаются, будто от горячности, то повисают, такие же утомлённые движением, как их хозяйка. Широкая амплитуда движений, постоянная круговая, дугообразная траектория. Высокие поддержки, которые семантически отсылают к сексуальному экстазу. Всё это составляет пластический рисунок фрагмента, не оставляя сомнений, что перед нами — эпизод, передающий чувственную, плотскую любовь.
Мартынов для этого места сочинил музыку строгую, дисциплинированную, церемонную — и в то же время такую же широкую, экспрессивную, как танец. Партитура «Белой комнаты» построена на повторениях звуковых паттернов — та самая «хорошая» фоновость минималистских партитур, о которой шла речь выше. Дуэт звучит как сочетание низких звуков органа, напоминающих гудение разгорячённой крови, и размеренного, как неспешный шаг, ритма ударных. Мартынов во многом отсылает к церковной музыке, использует краски, привычные для месс, — тот же низкий регистр, его взлетающий густой гул. И в то же время он сочиняет мелодию с чёткими, резкими акцентами. напоминающую тяжёлое разгорячённое дыхание и заполошное сердцебиение. Мы будто бы оказываемся одновременно в соборе, где влюблённых торжественно сочетают браком, и подслушиваем эмоции, которые они испытывают за дверями спальни.
Благодаря такому музыкальному решению, — построенному и на интеллектуальных, и на телесных ассоциациях, захватывающему на разных уровнях, — эта сцена в спектакле приобретает почти космический масштаб. Хореография Павла Глухова, который умеет и выстраивать ощущения, тонкие образы, и рассказывать конкретную историю, становится объёмнее. Музыка Мартынова не иллюстрирует её, не противоречит, не рассказывает что-то отдельное. Она предлагает ещё несколько пластов восприятия, вариантов чтения. Мы будто бы оказываемся в центре нервной системы неназванных персонажей Любови Савчук и Александра Носова. Зал «Зарядья» и его суперорган буквально вибрируют в этом сегменте — точно так же, как внутренне напряжены и резонируют герои. Музыка торжественна, возвышенна и чувственна разом — как может сочетать те же полярные чувства отношения в паре в момент, о котором можно сказать именно «занятия любовью». Мартынов своей музыкой расцвечивает сцену, делает её универсальной. Звучи в этот момент что-то иное — и танец, который сочинил Павел Глухов, мог бы читаться и ощущаться совершенно иначе, как другая история.
Благодаря такому музыкальному решению, — построенному и на интеллектуальных, и на телесных ассоциациях, захватывающему на разных уровнях, — эта сцена в спектакле приобретает почти космический масштаб. Хореография Павла Глухова, который умеет и выстраивать ощущения, тонкие образы, и рассказывать конкретную историю, становится объёмнее. Музыка Мартынова не иллюстрирует её, не противоречит, не рассказывает что-то отдельное. Она предлагает ещё несколько пластов восприятия, вариантов чтения. Мы будто бы оказываемся в центре нервной системы неназванных персонажей Любови Савчук и Александра Носова. Зал «Зарядья» и его суперорган буквально вибрируют в этом сегменте — точно так же, как внутренне напряжены и резонируют герои. Музыка торжественна, возвышенна и чувственна разом — как может сочетать те же полярные чувства отношения в паре в момент, о котором можно сказать именно «занятия любовью». Мартынов своей музыкой расцвечивает сцену, делает её универсальной. Звучи в этот момент что-то иное — и танец, который сочинил Павел Глухов, мог бы читаться и ощущаться совершенно иначе, как другая история.
Современный танец нуждается не в фоновой музыке, но в некоторой звуковой поверхности, от которой можно оттолкнуться
Пожалуй, Владимир Мартынов, композитор, который разом имеет большой опыт работы на заказ и под требования — сам он говорит, что в советское время в кино, где он зарабатывал, требовали строго соответствовать предписаниям, — и в то же время слишком индивидуален и лукав как автор, чтобы выдавать только то, о чём его попросили, стал идеальным союзником для Павла Глухова. «Белая комната» удачно сочетает тип отношений, который выстраивается в лучших образцах современной «для ног» балетной музыки, которую пишет, например, Джоби Тэлбот, постоянный соратник Кристофера Уилдона — удобный счёт, соответствие замыслу, запоминающаяся мелодия, которая сцепляется в памяти с танцем, и независимое существование двух артистов с собственными идеями. Современный танец нуждается не в фоновой музыке, но в некоторой звуковой поверхности, от которой можно оттолкнуться, в партнёре, который, как во время контактной импровизации, привнесёт что-то своё и в то же время будет достаточно внимательным и эмпатичным, чтобы не перетягивать одеяло на себя и не выходить на бесконечные «соло», не устраивать борьбу за внимание зала. Часто такого партнёра подбирают из числа готовых сочинений — потому что проще найти что-то существующее, с чем хореограф и танцовщики резонируют, чем ещё одного участника команды. Однако в случае с «Белой комнатой» сработали все части: и независимо-договороспособный Мартынов, и сочетание инструментов, орган и ударные, которые редко попадают на контемпорари-сцену именно в такой комбинации, и живой звук, который, безусловно, вмешивается в динамику на сцене и дополняет её, и даже архитектура зала и то, как именно в нём отражается звук.
«Белая комната», особенно в первых своих сценах, смотрится как гимн природным элементам — движению трав, дыханию ветра
Последнее особенно интересно. Павел Глухов в последние сезоны ставит много и пробует разные манеры, приёмы. В «Белой комнате» он немного возвращается к OG Глухову — поэтичному, ассоциативному, пластика которого напоминает о природных, естественных линиях и жестах, и рассчитана на общее движение, создание «коллективного тела» на сцене. «Белая комната», особенно в первых своих сценах, смотрится как гимн природным элементам — движению трав, дыханию ветра. И если сама партитура Мартынова, насыщенная явными и неявными отсылками к истории органной музыки, выступает здесь как «цивилизующий» партнёр, что-то вроде садовых грабель, которые придают буйному цветению форму, то сама архитектура «Зарядья» с её мягкими, округлыми, холмообразными линиями, светлыми естественными оттенками поддерживает ощущение природности. И если визуально это пасторальная природа, то в плане распределения звука это часто — среда дикая, необузданная. Благодаря акустике зала орган и ударные звучат преувеличенно мощно, отдаются в грудной клетке, как будто где-то установлены стадионные динамики, которые «качают» аудиторию. Так даже технические характеристики становятся частью зрительского опыта, превращаются в ещё одного партнёра хореографического решения — возможно, чтобы измениться на новом месте. И в этом тоже есть своя прелесть: когда люди вступают в отношения, неважно, романтические или дружеские, в них предзаложена изменчивость всех участников, их развитие. В Зале Чайковского отношения частей «Белой комнаты» изменятся, потому что будет другой инструмент, другая акустика, другое состояние танцовщиков, другой, не такой, как в ноябре 2024 года, мир вокруг — и это ещё одно подтверждение «партнёрской» схемы взаимодействия музыки и танца в этом спектакле. Незакреплённость, текучесть как ключевой принцип.
В материале использованы фотографии Олеси Сипович и Лидии Осиповой