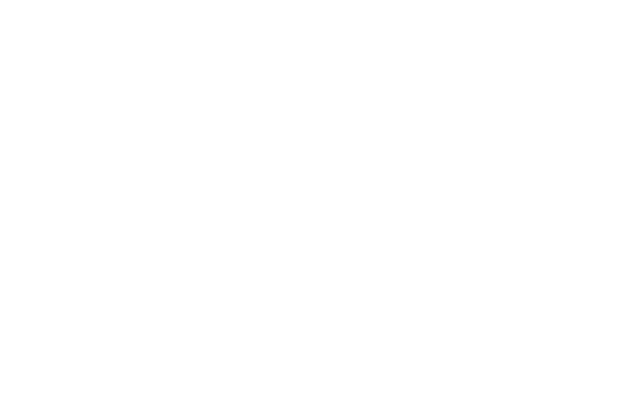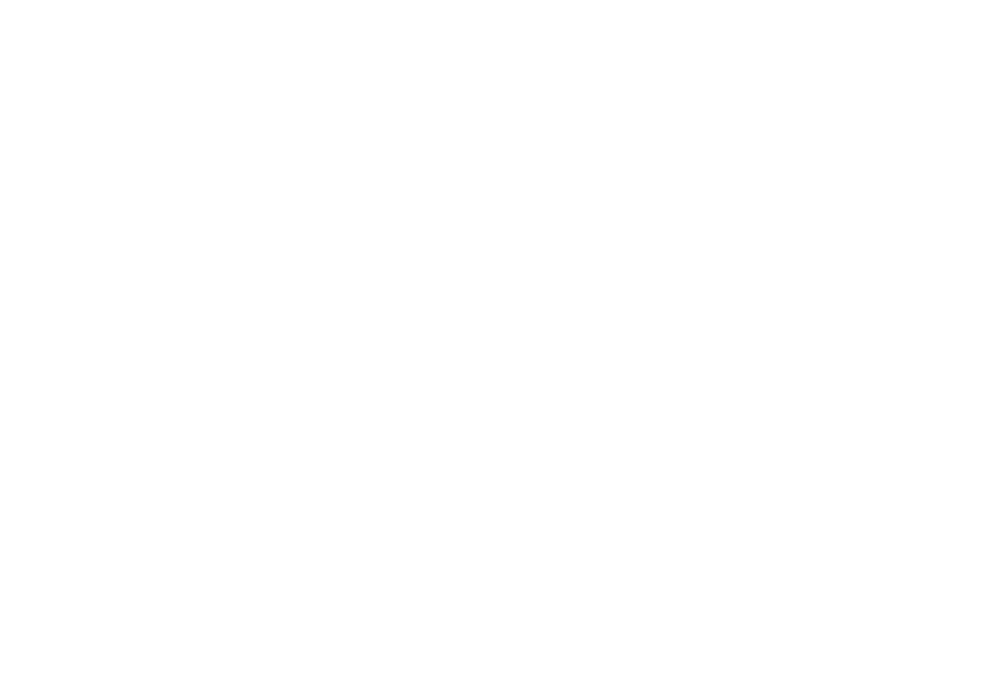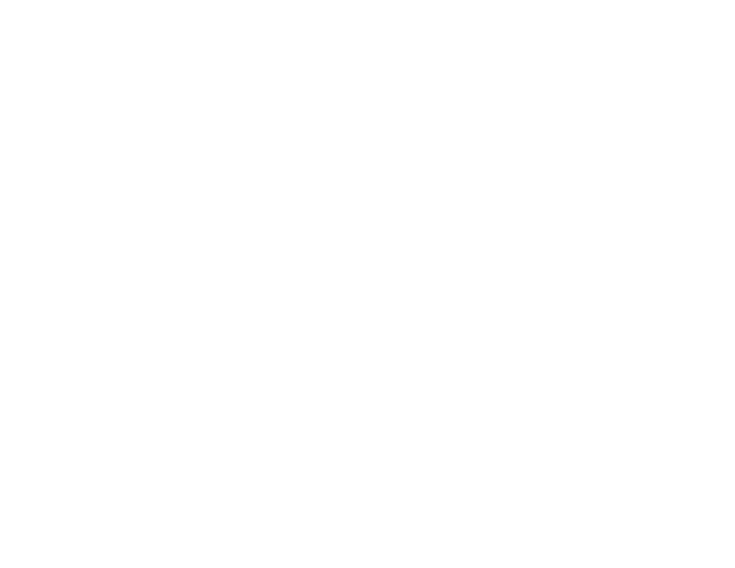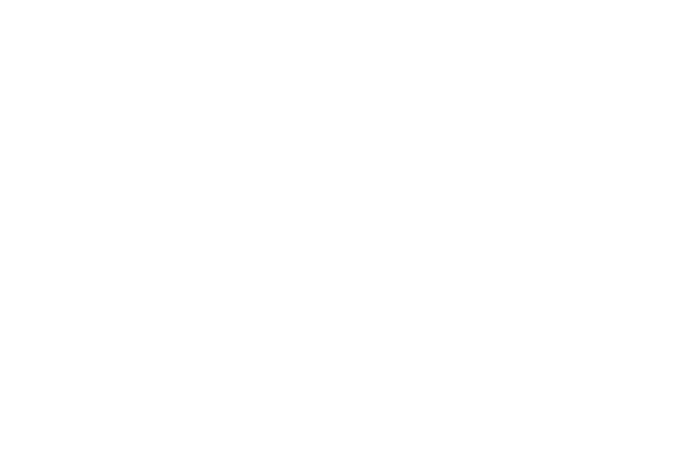Словарь Майи Плисецкой
к 100-летию великой балерины
О ней написано множество статей и рецензий, выпущено немало книг и интервью, документальных и художественных фильмов.
Но лучше всего о себе в мемуарах рассказала, конечно, сама Плисецкая.
Казалось бы, что нового можно сказать о великой балерине? Да и как описать словами её талант, её дар?
Феноменальная, неповторимая.
Айсылу Кадырова создала «Словарь Майи Плисецкой». Это не хроника её жизни и не подсчет главных событий. А живая память и наше неустанное признание в любви гению Майи Михайловны.
20 ноября 2025 года — это сотый день рождения великой балерины Майи Плисецкой. Её нет в живых уже десять лет, но за это время слава Плисецкой не померкла. Майя Михайловна — как красивая женщина, интеллектуалка, танцовщица-визионер и беспощадная мемуаристка — по-прежнему пленяет.
В честь столетия легендарной балерины я составила «Словарь Майи Плисецкой». Разложила на буквы её имя и фамилию: к каждой букве подбирала ключевые для жизни Плисецкой слова (или имена), к ним — документальные истории. Среди рассказчиков этих историй — современники Майи Михайловны, а также сама балерина.
Итак, первая буква «Словаря Майи Плисецкой»…
«У каждого города есть свой запах. Я всегда это обоняю. Уже в аэропорту. Мюнхен пахнет автомобильными лаками. <…> Москва — мусором улиц („отечество почти я ненавижу“, по Пушкину)».
Мюнхен «чуден. Весь в зелени. Умыт. Начищен, как на парад. Я люблю склонность немцев к порядку, уюту. Их трудолюбие. Мы снимаем двухкомнатную квартиру по Терезиен Штрассе. Эго самый центр. Все под рукою. Все рядом. Всё удобно. Люблю Мюнхен по воскресеньям…»
В интервью «Известиям» в 2010 году Щедрин говорил:
но тоже балет для неё».
«Конек-Горбунок» — Майе Плисецкой" (1960), «Анна Каренина» — Майе Плисецкой, неизменно" (1972), «Чайка» — Майе Плисецкой, всегда" (1980), «Дама с собачкой» — Майе Плисецкой, вечно" (1985).
в 2002 году Щедрин вспоминал в интервью Николаю Ефимовичу.
«Когда мы жили на даче в Снегирях, нам помогал по строительству некто Лёша Леденев — славный русский парень. Он как выпивал хоть сто граммов, бил свою жену за то, что она отдалась ему в первый же вечер. Я Майю за это не бью».
После этого признания Щедрина Николай Ефимович пишет: «Тут Плисецкая и Щедрин озорно рассмеялись. И стало понятно, что они так же молоды и счастливы, как и много лет назад».
В 2012 году в телепередаче «Познер» ведущий спрашивал Щедрина:
— О чём вы больше всего сожалеете?
— Что жизнь короткая.
— Если бы вам дано было исполнить три ваших желания, любых, что бы вы выбрали?
— Быть вечно с моей женой.
— Первое.
— Быть вечно с моей женой.
— Второе.
— Быть вечно с моей женой…
Родион Щедрин пережил свою супругу на 10 лет. Его не стало 29 августа 2025 года. Ему было 92 года.
«Мои фотопортреты, сотворенные его волшебным глазом и магической рукой, до сих пор никем не превзойдены. Я так считаю. Они стали символом моего искусства, моего образа. Да и моего облика».
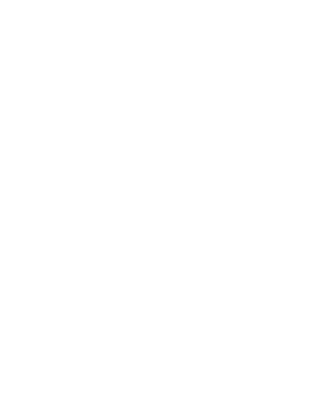
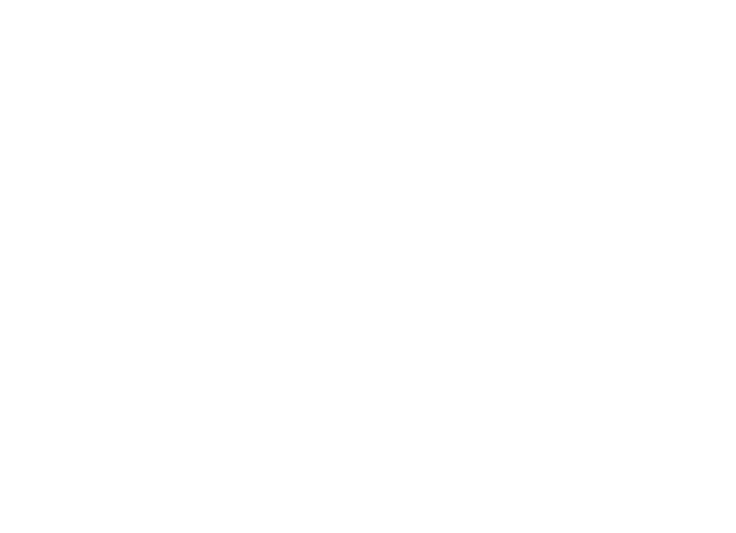
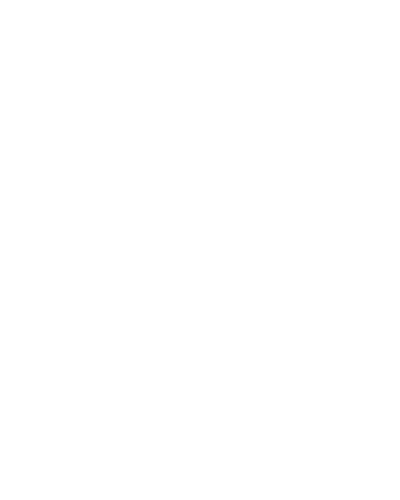
«Мы гастролировали в Нью-Йорке. Он был на спектаклях и попросил переводчицу, чтобы она привела меня к нему в студию. Что она и сделала. А я и не знала, кто он. Она просто сказала: надо для Vogue сняться. Его фотографии поместили и в журнале „Америка“, который у нас выходил…»
«Анна Каренина»
Театральный критик Наталия Звенигородская писала об этом балете в статье для «Большой российской энциклопедии»:
«Пунктирно следующая сюжету романа хореодрама, не блиставшая оригинальностью пластического языка, не стоила бы сопровождавших её жарких дискуссий, если бы не мощная индивидуальность Плисецкой. Рядом с клишированным Карениным, которого заведомо невозможно любить, и облагороженно балетным Вронским, в которого нельзя не влюбиться, созданный балериной образ Анны единственный приближался к образу, созданному Толстым, в своей человеческой драме, глубине, неразгаданности и неисчерпанности».
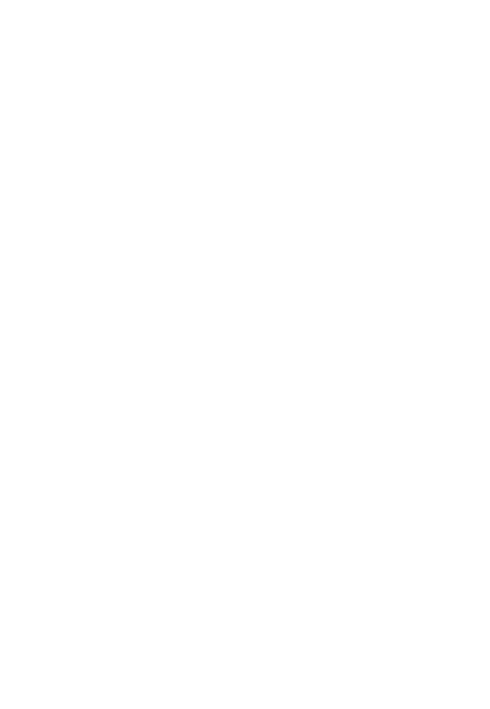
«Ave Майя»
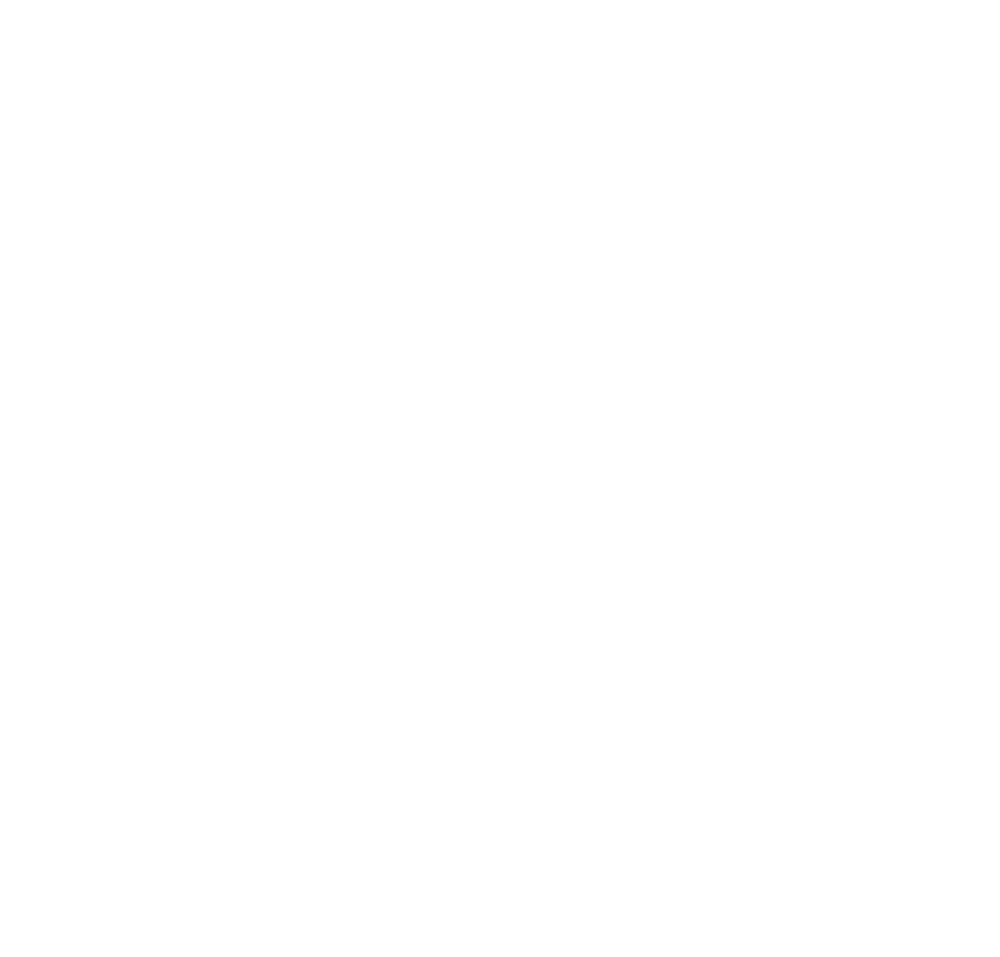
Плисецкая впервые исполнила миниатюру Бежара в Большом театре России на гала-концерте в честь своего 75-летия. Танцевала она её и в 80 лет. «Ave Майя» стала последним номером, с которым Плисецкая выходила на сцену: в брючном костюме, с веерами в каждой руке — с красным и белым, и в серебристых туфлях на маленьком каблуке. Танцевали, в основном, руки балерины — невероятной красоты и гибкости, магнетизирующие.
— говорила балерина в 2005 году Николаю Ефимовичу.
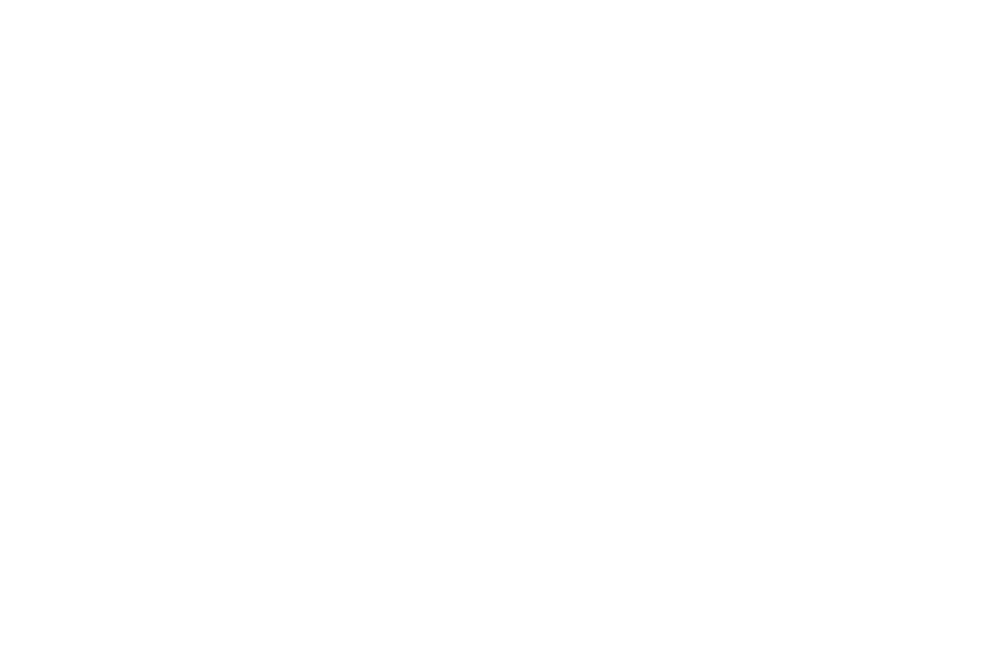
Инопланетянка. Так называл Плисецкую Щедрин. В интервью газете «Известия» в 2010 году Родион Константинович говорил:
прожитый вместе»
«<…> за профессиональную карьеру Майе Плисецкой бороться не пришлось: уже на второй сезон ей досталась „Раймонда“. И это в труппе, где царствовали Марина Семенова и Галина Уланова, танцевали генеральские жены Ольга Лепешинская и Софья Головкина, работала орденоносная тетка Суламифь Мессерер и прочие яркие дамы — талантливые или просто влиятельные. На фоне этой сиятельной когорты Майя Плисецкая выглядела как инопланетянка — высокая, гибкая, длинноногая, с поразительными беззаконными руками, с рыжей гривой, привольной пластикой и избыточными данными».
«Рисовали [меня] много, но ужасно плохо. Есть лишь несколько хороших моих портретов художников Фонвизина (висят у меня дома) и Галенца — тоже дома».
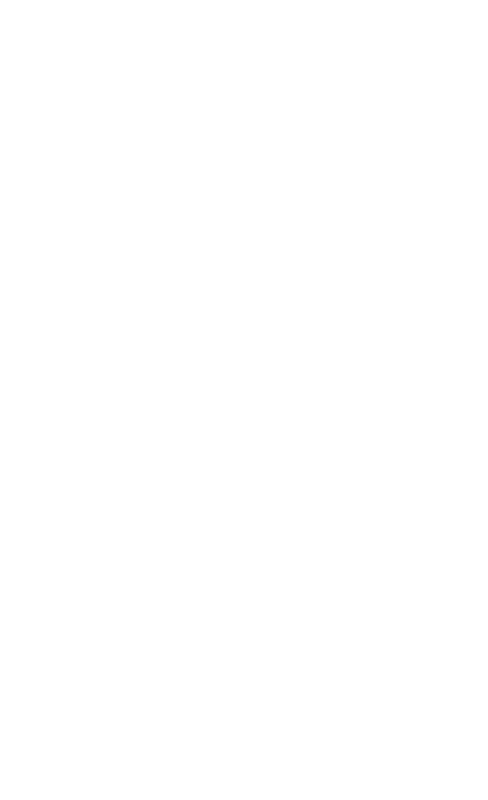
Она работала с ним со своего балетного детства. И так часто, как ни с кем другим из отечественных хореографов. Майе было 9 лет, когда Якобсон придумал для нее роль Китайца в хореографическом памфлете «Конференции по разоружению» (1934); это была первая роль Плисецкой, созданная специально для неё.
Почти все книги о Плисецкой, за очень редким исключением, повторяют факты из книг самой Плисецкой. И, конечно же, проигрывают первоисточнику. Книга Юлии Яковлевой — из редких исключений.
«Париж — мой город. Стоит только произнести слово „Париж“, как у меня сердце замирает. Мой первый настоящий триумф состоялся в Париже».
Это было в 1961 году: Плисецкую с партнёром Николаем Фадеечевым пригласили в Opéra national de Paris станцевать три «Лебединых озера» в постановке Владимира Бурмейстера.
«Пресса назвала цифру наших вызовов за занавес после конца балета — двадцать семь раз. Для Парижа не так-то уж плохо», — констатировала Плисецкая в своих мемуарах. И не без удовольствия объясняла, что ей удалось «переключить внимание аудитории с абстрактной техники — на душу и пластику. Когда я танцевала финал второго акта, взгляды приковывались к рисунку лебединых рук, излому шеи; никто не замечал, что мои па-де-бурре не так уж совершенны».
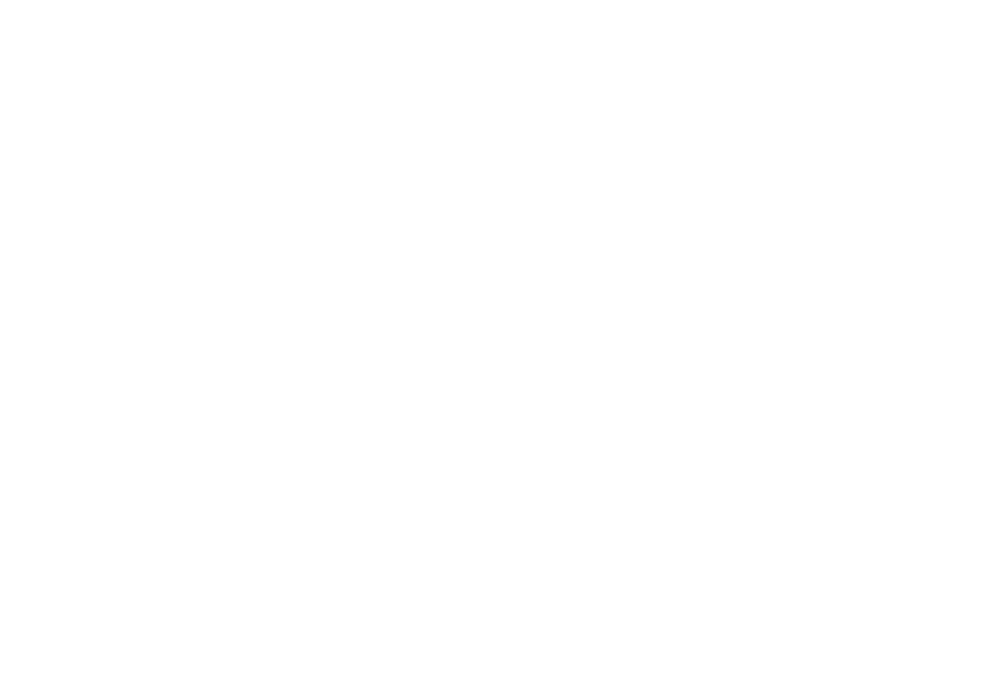
Фотоархив музея ГАБТа
«Всегда кокетливая, изящная, в ней было очень много французского. В сущности, она была истинной парижанкой: любила хорошие рестораны, приемы, красивую одежду. Майя умела не только красиво танцевать, но и красиво жить».
Плисецкая любила делать подарки. Французский танцовщик Дени Ганьо, с которым она танцевала в «Федре» Лифаря (он — Ипполита, Майя — Федру), рассказывал в одном из интервью, что после спектакля Плисецкая дарила ему чёрную икру.
— написал в своих мемуарах «Жизнь в балете. Семейные хроники
Плисецких и Мессереров» Азарий Плисецкий, брат Майи.
«Майю страшно увлекал сам процесс покупки. Она обожала магазины, обожала покупать. Такой она была с детства и не поменялась до конца жизни».
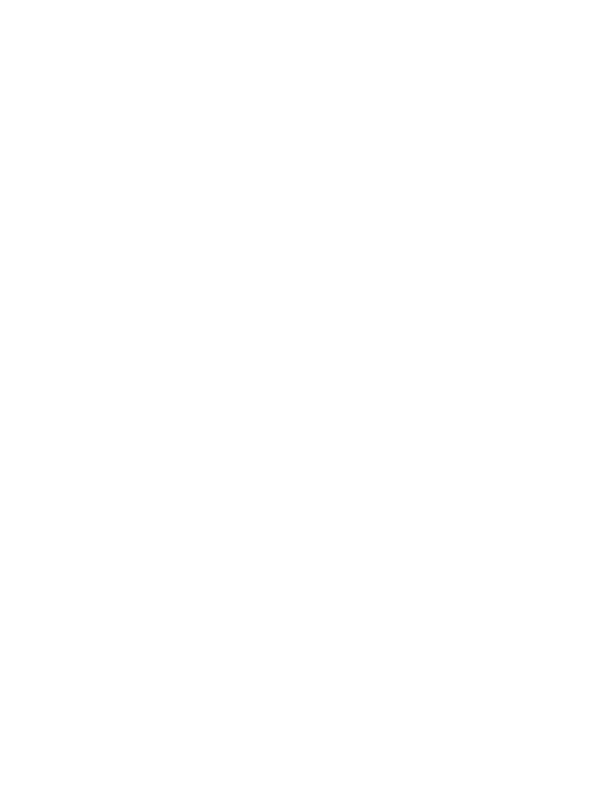
Одна из инициатив Фонда Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, который супруги учредили в 2000 году в Майнце (Германия). Балетный приз Плисецкой не был ежегодным: при жизни балерина успела наградить им немецкого хореографа Петера Бройера (за выдающуюся версию балета «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе, Родиона Щедрина, Эдварда Эльгара и песни группы Radio Tarifa, это было в 2005 году), и литовскую балерину Эгле Шпокайте (2009 год). В апреле 2015 года, за несколько дней до своей скоропостижной смерти, Майя Михайловна успела назвать имя третьего обладателя своего приза: Жиль Роман, хореограф, экс-премьер труппы Мориса Бежара.
«Роман — сам яркий, талантливый хореограф, замечательный организатор и бережный хранитель гениального наследия Бежара. Своей премией я хотела бы посильно отметить и подчеркнуть художественные заслуги Жиля Романа. Жиль Роман значительная фигура мирового балетного искусства сегодня», — писала Плисецкая на официальном сайте Фонда.
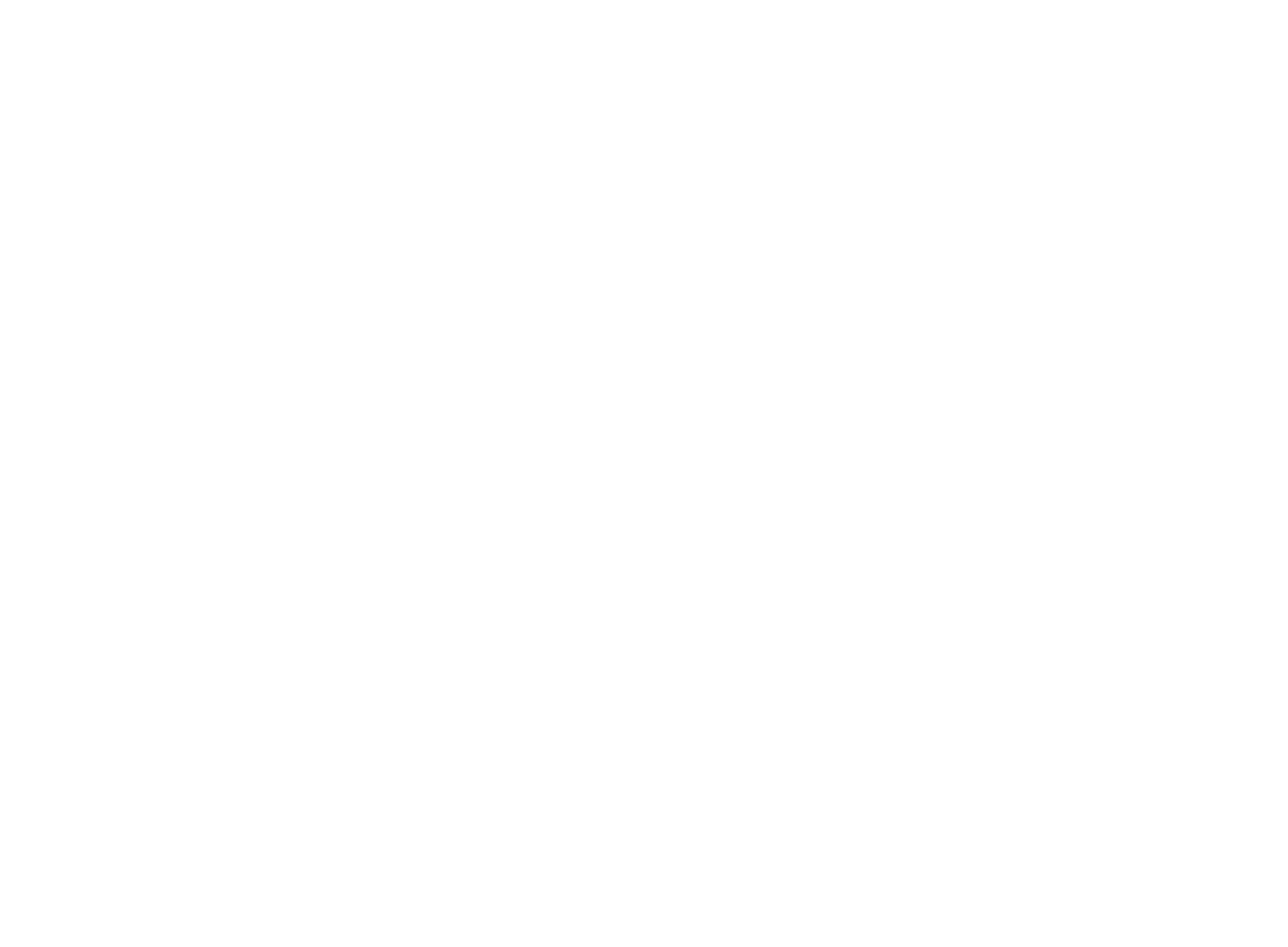
«Лебедь»
Актриса и телеведущая Сати Спивакова писала в 2002 года в своей книге «Не все» о Плисецкой:
«Лет двенадцать назад мне довелось стоять в кулисе, когда она танцевала „Лебедя“. В принципе я знаю, что балет — искусство, которое смотрят издали. Вблизи, по идее, смотреть нельзя. Видишь не красоту, а работу, тяжелое дыхание, пот, слышишь стук пуантов. Так вот, на выступлении Майи в Париже в театре Пьера Кардена Espace Cardin я стояла буквально в пяти метрах от неё. Меня потрясло, что вблизи я не увидела швов. Линии плавно перетекали одна в другую, один жест предварял другой. Все казалось просто, движения были рассчитаны, не было ничего лишнего. Её танец настолько чист, что его можно смотреть с любого расстояния».
Плисецкая была левшой: всё делала левой рукой, но писать её научили правой. Левой рукой она тоже умела писать, но только в противоположном направлении, зеркально.
Лень
«Я всю жизнь была лентяйкой, очень мало танцевала. Может быть, поэтому я себя и не износила. Молодые балерины затаскивают свое тело до изнеможения. Я не докручивала фуэте, ну и что? И балетов я могла станцевать гораздо больше. В молодости я себя страшно за это ругала», — цитирует слова Плисецкой в своей книге «Не все» Сати Спивакова.
Вадим Верник, автор документальной истории «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой», цитирует Родиона Щедрина:
«Пускай это прозвучит парадоксом, но Майя необыкновенно ленива, в том числе и в балете. Все, чего она достигла, — благодаря господу Богу и тому дару с небес, который она получила от рождения. Но благодаря своей ленности она продолжает карьеру, потому что никогда не насиловала свои мышцы, свое тело усердием, зубрежкой, — всё это вызывает некоторую степень раздражительности у неё. Ну немножко-то можно порепетировать. Её природа так устроена, что ей проще всё найти интуитивным путем, меняя многое на ходу. Я думаю, что это ей подсказал ангел-хранитель, который её оградил от чрезмерной усердности. Благодаря этому она достигла больше, чем могла бы достичь волей и усердием».
Из книги «Я, Майя Плисецкая…»
«Когда двухлетний контракт Майи с Испанским национальным балетом закончился, его не стали продлевать. Собственно, речь и не шла о длительном сотрудничестве. К тому же Майя как главный балетмейстер очень дорого обходилась бюджету страны. Контракт гарантировал не только достойный гонорар, но и проживание в лучшем номере пятизвездочного отеля, а также круглосуточное обслуживание автомобилем класса люкс с персональным водителем. В прессе регулярно появлялись статьи с заголовками „Во сколько обходится Испании Майя Плисецкая?“. Журналисты подсчитывали, сколько, например, стоит большой черный „мерседес“, который часто стоял в бездействии. Водитель, испанец двухметрового роста по имени Карлос, всякий раз, задавая Майе вопрос „Я Вам понадоблюсь еще?“, получал в ответ: „Подождите, я еще не знаю“. Будучи натурой спонтанной, Майя практически никогда не могла спланировать своё время. Водитель ждал часами, а часы простоя стоили денег…»
Отца балерины, дипломата Михаила Плисецкого, арестовали в 1937 году, в 1938 — расстреляли. Мать — актрису немого кино Рахиль (Ра) Мессерер-Плисецкую — как жену «врага народа» посадили в Бутырскую тюрьму (1938), а потом этапировали в Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Майю удочерила тётя по материнской линии — Суламифь Мессерер (1908−2004), балерина Большого театра СССР.
После смерти Сталина Михаила Плисецкого полностью реабилитировали (1956).
«Маленьким Сталиным» Плисецкая называла главного балетмейстера Большого театра СССР
Юрия Григоровича (1927−2025).
Из книги «Я, Майя Плисецкая…»:
«Григорович — прямой продукт советской Системы. Потому и переродился из сочинителя балетов в диктатора-самодура, крохотного сталинчика».
Сцена Большого театра России
Из интервью с Николаем Ефимовичем (2010):
«Я её обожала и обожаю, считаю её самой лучшей сценой мира. Можете мне поверить, потому что я танцевала почти на всех сценах мира. Такой сцены, как в Большом, на свете нет».
Из книги «Я, Майя Плисецкая…»:
«Совершеннее сцены старого Метрополитен-опера только, пожалуй, сцена Большого. В Большом театре пропорции и конструкция — идеальны для классического танца. Может, поэтому я о бегстве не думала?»
Огромная армия «сыров» и «сырих» была у Майи Плисецкой. Среди них — Шура Ройтберг, которая стала близким другом для Плисецкой и Щедрина. Майя Михайловна рассказывала про неё на прямой связи с читателями «Комсомольской правды» в конце 2000 года:
«Шура была моей поклонницей. Обычно они стоят около театра, и их называют „сырами“. Причем они все менялись, но Шура была неизменно и всегда. Она посвятила мне жизнь, отказавшись от всего личного. Когда умерла Катя Жамкова (домработница — прим. ред.), проработавшая у нас 37 лет, Шура заменила ее. Она скрывала от своих родственников, что она со мной. И в моей книге попросила не называть её фамилии. Она была абсолютно предана нам…»
Шура Ройтберг трагически погибла в августе 2000 годаво время террористического взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве.
В 2009 году в интервью газете «Комсомольская правда» Плисецкая на вопрос, может ли она сейчас позволить себе есть пирожные, ответила:
«Я пирожные, к счастью, не люблю. Я больше пиво с сосисками. Это, наверное, с детства. Мы ходили в театр через магазин Мосторга и там всегда покупали томатный сок с солью, сосиски. А вообще — люди не придумали ничего вкуснее, чем обычный хлеб с маслом».
В книге Николая Ефимовича «Майя Плисецкая. Рыжий лебедь…» балерина говорит:
«Я ела всегда много. И вес мой был чуть-чуть больше, чем нужно. Бывали периоды, когда я худела, но неумышленно — просто из-за репетиций не успевала поесть».
Из книги подруги Плисецкой певицы Людмилы Зыкиной «Течет моя Волга» (1998) можно узнать, что рост Майи Михайловны был — 165 сантиметров. Есть в книге Зыкиной и любопытный эпизод про отношение Плисецкой к лишнему весу:
«Замечу, кстати, что Плисецкая, когда начинала, весила пятьдесят шесть килограммов. Потом вес держался на постоянном уровне — сорок девять. Однажды — дело было в ее квартире на Тверской, — увидев у знакомого журналиста довольно внушительную округлость талии, балерина с изумлением воскликнула: „Какой ужас! Такой живот позволителен Уинстону Черчиллю. Люся, ты где-нибудь видела талантливых пузатых журналистов в тридцать или сорок лет? Я не видела. Вот возьми и убери это безобразие с талии…“ И она протянула опешившему репортеру широкий, из отличной кожи ремень, привезенный ею из Мадрида, где Плисецкая в то время работала по контракту».
Идеальной пищей для балерины Плисецкая считала японскую кухню:
«Сушими, суши, шабу-шабу, скьяки, темпура плотно насыщают твой желудок, дают телу энергию. Но не тяжелят, не клонят в сон. Сразу из-за стола можно идти на сцену».
«<…> начала любить футбол ещё с Григория Федотова, когда мы первый раз, в третьем или в четвертом классе, пошли на стадион. И с тех пор болею за ЦСКА.
<…> В общем, я должна сказать, что футболисты — это современные гладиаторы, я их люблю и уважаю. Они работают на износ".
25 апреля 2015 года (накануне тяжелого сердечного приступа, с которым Плисецкую увезли в больницу) Майя Михайловна и Родион Константинович ходили на футбол: в этот день мюнхенская «Бавария» в поединке Бундеслиги обыграла берлинскую «Герту» со счетом 1:0.
«<…> через Надю Леже я познакомилась с Пьером Карденом, великим, неповторимым, неистощимым выдумщиком Пьером Карденом, и побывала на его ослепительных коллекциях, я смогла нутром ощутить, что мода — это искусство. Полное тайн, недосказанности, волшебства — искусство. Я твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты „Анна Каренина“, „Чайка“, „Дама с собачкой“. Без его истонченной фантазии, достоверно передавшей зрителю аромат эпох Толстого и Чехова, мне не удалось бы осуществить мечту», —
писала в своих мемуарах Плисецкая.
Карден вспоминал в том интервью:
«Через несколько месяцев после Авиньонского фестиваля Майя должна была выступать на сцене Гранд-Опера в Париже. Мы встретились в отеле, где она остановилась, поговорили немного, и Майя, чуть смущаясь, сказала мне, что после спектакля она приглашена на прием, но не знает, что принято надевать по таким случаям в Париже. Мне вдруг захотелось, чтобы Майя была самой элегантной на этом вечере. Сама она меня, естественно, ни о чем не попросила, но я понимал, что, даже будучи примой Большого, она не может позволить себе купить вечернее платье, в котором могла бы достойно выглядеть. Ничего не сказав Плисецкой, я позвонил в свое ателье, и через час мой бессменный портной Отелло был в гостинице с платьем для Майи, которое я осмелился сам для нее выбрать.
С тех пор, как только она приезжала в Париж, я охотно одевал ее в свои последние модели (многие из них создавались специально для нее). Майя была счастлива. Тем более что, как она мне однажды поведала, по возвращении в СССР у неё, как правило, отбирали все подарки, за исключением одежды. Наверное, у Майи набралось около сотни моих нарядов. Когда же она стала преподавать в Германии и хорошо зарабатывать, то сказала, что хочет заплатить за всё, что приняла от меня. Но то первое платье всё же осталось моим подарком…"
«прикалывая орден <…>, [президент ] прилюдно, но тихо спросил меня:
— А Карден не обидится? Я его платье не испорчу?"
«Кармен-сюита»
Если бы не Майя Плисецкая, этого балета бы не существовало: она была и автором идеи, и в какой-то степени продюсером постановки (вела переговоры с хореографом, министерством культуры, искала композитора, художника), и первой исполнительницей заглавной партии.
Плисецкую можно считать легендарной балериной благодаря одной только «Кармен-сюите». Это абсолютный шедевр — и музыкальный, и хореографический.
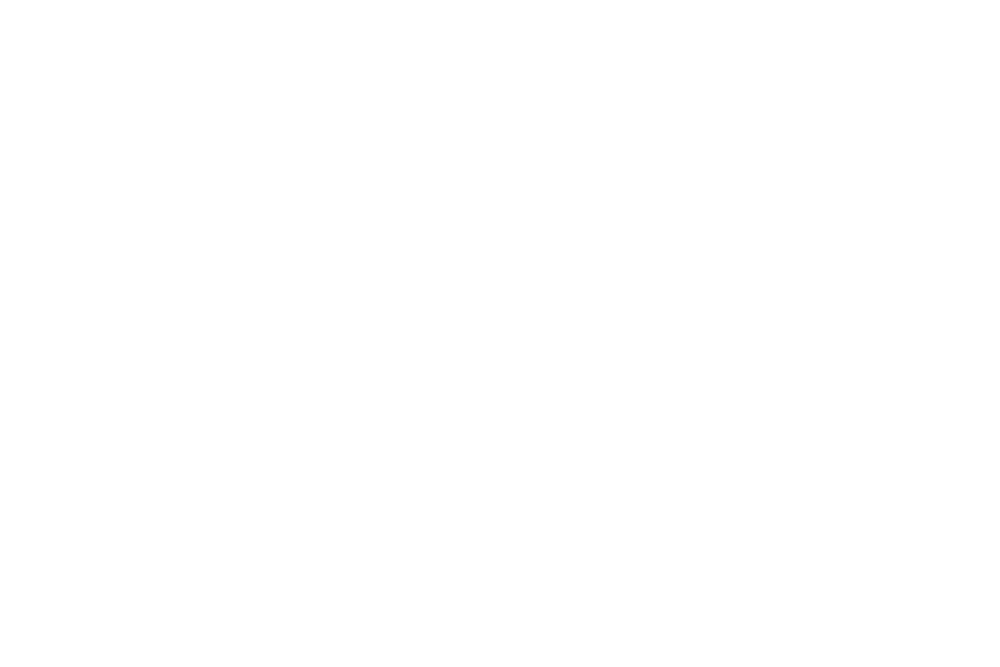
«Премьера „Кармен“ состоялась 20 апреля 1967 года, а уже на следующий день министр культуры Екатерина Фурцева балет запретила. „Кармен“ обвиняли в чрезмерном формализме и эротизме. Саму Майю Екатерина Алексеевна назвала „предательницей балета“ и предрекла: „Кармен умрет“. Майя ответила: „Кармен умрет тогда, когда умру я“».
В 2000 году на «Прямой связи» с читателями «Комсомольской правды» Плисецкая заявила: «Сейчас я уже могу сказать: „Я умру, а Кармен — нет“. Это больше, чем я думала».
В 2016 году в Москве, на Большой Дмитровке, установили памятник Плисецкой в образе Кармен. Авторы девятиметрового монумента — скульптор Виктор Митрошин и архитектор Алексей Емельянов.
В своем завещании Майя Плисецкая написала о себе и Щедрине:
«Последняя воля такова — тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией».
Майя Плисецкая скоропостижно скончалась 2 мая 2015 года от обширного инфаркта в больнице в Мюнхене. Ей было 89 лет.
Церемонию прощания с великой балериной провели в шестидесяти километрах от Мюнхена — в крематории городка Киссинг. Приглашены были самые близкие — человек пятнадцать, как пишет в своей книге Азарий Плисецкий. Прощание было недолгим…
Из книги Азария Плисецкого:
«Таким финалом Майя обезопасила себя от лицемерных речей, фальшивого официоза, любопытных журналистов и осталась в памяти своих поклонников навсегда живой и прекрасной».
Обычно так говорят про балет и профессиональные будни танцовщиков. Плисецкой это не нравилось. В интервью «Комсомольской правде»
в 2010 году она объясняла:
«Люди немножко преувеличивают, говоря, что это нечеловеческий труд. Делать хорошо всё трудно! В любой профессии. Циркачи ещё и жизнью рискуют. Преклоняюсь перед цирком. И перед спортом. Для балета, знаете, важен ещё хореограф: подходит его стиль вашим ногам или нет. И только для спорта играет роль сам человек. Адский труд — это спорт и цирк.
<…> Я уважаю только то, что трудно. Что легко — все могут. Тогда какой опыт в этом? В балете — тоже трудно. Я люблю балет. Я ведь для людей, не для себя. Кто-то говорит: всё делаю только для себя — танцую, пишу, сочиняю… Я выходила на сцену для публики и только для публики…"
Одна из любимых стран Плисецкой. Здесь она установила свой личный рекорд: бисировала фокинского «Лебедя» четыре раза. Потом этот рекорд был повторен в Лиссабоне, Нью-Йорке и Париже.
В 2006 году в Японии Плисецкой вручили Международную Императорскую премию Японии Praemium Imperiale («за выдающийся вклад в развитие и распространение искусства»), которую считают аналогом Нобелевской премии в сфере культуры.
«Я, Майя Плисецкая…»
В 2007 году балетный критик газеты «Коммерсантъ» Татьяна Кузнецова спросила Плисецкую:
— Писала. Сама. Ручкой. В тетрадках. Я всегда возила их с собой, писала везде: дома, в поезде, в самолете. Едем с Щедриным куда-нибудь в Майнц четыре часа: у него в голове музыка, у меня — книга. Не могу сказать, что так уж легко писалось. Это только кажется, что у меня простой язык. Чтобы фраза была короткая, ёмкая и выразительная, я переписывала её раз по десять, мучительно. И после этого редактировать себя не разрешаю. Ни слова, ни запятой. На мои условия согласились только «Новости», поэтому там и вышли обе мои книги.
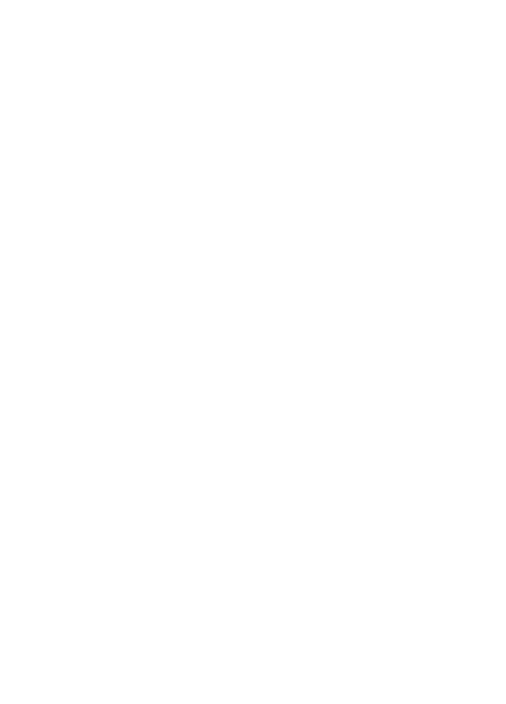
Материал подготовила Айсылу Кадырова
Фотографии взяты из открытых источников в социальных сетях.
На обложке: Фотограф Джек Митчелл, 1987 год