Место для танца
Пространство для танца может быть совершенно разным: от привычной чёрной коробки, зала академического театра, камерной сцены и амфитеатра до открытой площадки со свободной рассадкой или же и вовсе возможностью для зрителей перемещения во время действия.
Как пространство влияет на танец? Как меняется восприятие происходящего, когда пропадает «четвёртая стена», привычное расстояние между артистами и зрителем.
На эти темы рассуждают Ника Пархомовская и Инна Розова.
Казалось бы, очевидная мысль — пространство напрямую влияет на восприятие танцевального действия —, в реальности не так очевидна. Хореографы держат её в голове, когда речь идёт о сайт-специфик проектах, поскольку сама концепция здесь строится на том, что место определяет замысел и способ реализации. В случае же когда постановщики работают с театральным пространством, им приходится выбирать, условно говоря, между чёрной и белой коробкой. Отсюда — иллюзия, что все эти коробки одинаковые, соответственно и спектакль, поставленный для блэк или уайт бокса, ничего не теряет и не приобретает при переносе в любое другое «закрытое» помещение.
Между тем, существует несколько важных переменных, которые влияют на зрительское восприятие: величина и глубина сцены, наличие и отсутствие подъёма, близость сцены к зрительному залу. Эти как будто бы формальные признаки могут превратить «комфортный» для зрителей танц-спектакль в раздражающий или вообще коренным образом переставить смысловые акценты постановки.
Театральный зал с достаточно просторной, приподнятой и отодвинутой от публики сценой автоматически создаёт пресловутую «четвёртую стену». Такое пространство рождает у зрителей ощущение, что они пришли в театр, чтобы «посмотреть спектакль» и приобщиться к искусству, не имеющему к их жизни непосредственного отношения. Поэтому даже если актеры обнажаются на сцене или обращаются непосредственно в зрительный зал, это не рождает того мучительного чувства неловкости, которое временами возникает на небольших «горизонтальных» площадках, где зрителям некуда спрятаться, так как они находятся в непосредственной близости от танцовщиков (а зачастую и на одном с ними уровне).
Театральный зал с достаточно просторной, приподнятой и отодвинутой от публики сценой автоматически создаёт пресловутую «четвёртую стену». Такое пространство рождает у зрителей ощущение, что они пришли в театр, чтобы «посмотреть спектакль» и приобщиться к искусству, не имеющему к их жизни непосредственного отношения. Поэтому даже если актеры обнажаются на сцене или обращаются непосредственно в зрительный зал, это не рождает того мучительного чувства неловкости, которое временами возникает на небольших «горизонтальных» площадках, где зрителям некуда спрятаться, так как они находятся в непосредственной близости от танцовщиков (а зачастую и на одном с ними уровне).
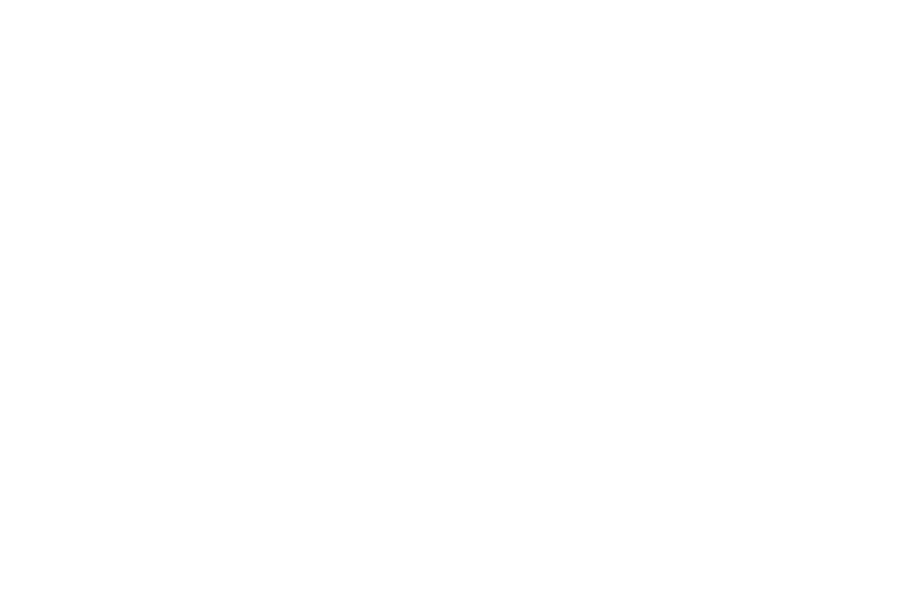
Йоланта Де Кеерсмакер в спектакле «Танцы для одной актрисы»
Само по себе обнажение на танцевальной сцене уже давно не новость и никого не удивляет, как это было тридцать лет назад со скандально известным спектаклем Жерома Беля Jerome Bel (1995), но даже в таком его тонком и деликатном относительно недавнем спектакле, как «Танцы для одной актрисы» (2021), неожиданное раздевание догола Йоланте Де Кеерсмакер на относительно камерной сцене парижского Théâtre de la Bastille действует на зрителей куда сильнее, чем в большом зале брюссельского Kaaitheater. Ни собственная насмотренность, ни широта взглядов, ни даже привычка ходить нагишом по квартире не спасают от секундного смущения при виде обнаженного тела на сцене. Реакция эта отчасти физиологическая, а отчасти социокультурная, и будет лукавством сказать, что её не существует. Чем ближе танцовщики, тем сложнее зрителю абстрагироваться, особенно если движения перформера достаточно энергичные. Весь вопрос тут в том, какую эмоцию хочет вызвать хореограф, и учитывается ли этот неожиданный эффект при переносе спектакля в пространство, отличное от того, для которого он был изначально предназначен.
Нам не раз приходилось видеть, как спектакли, созданные для небольших залов, терялись на масштабных площадках, где не настолько хорошо видны нюансы, интересные движения и филигранная работа, но которые требуют очень четкого общего рисунка. И даже если спектакль ничего не теряет при переносе с большой сцены на малую (и наоборот), оттенки смысла могут существенно сместиться. Так, в посвящённом групповой динамике спектакле Христоса Пападополуса Mycelium, созданном для балета Лионской оперы и показанном почти два года спустя в Опере Ренна (Opera de Rennes), смысл целого ряда сцен сменился чуть ли не на противоположный.
Двигаясь плотной группой по широкой и глубокой сцене лионского театра, танцовщики смотрелись как нечто единое, сплоченное и бесстрашно осваивающее всё предоставленное им пространство. Это рождало мысль о преимуществах совместного существования и необходимости налаживания социальных связей. На крошечной же, как будто «игрушечной» реннской сцене им словно не хватало места, и они постоянно оказывались в одной из кулис. Это наводило на совершенно иные мысли — о том, что коллектив сковывает, мешает развитию и лишает индивидуальности. Безусловно, подобный дуализм изначально заложен в постановке греческого хореографа, но в Ренне мы уходили со спектакля с совсем другим ощущением: это было не удовольствие от красивого совместного действия, а облегчение от того, что хоть кому-то удалось избавиться от гнета коллектива.
Двигаясь плотной группой по широкой и глубокой сцене лионского театра, танцовщики смотрелись как нечто единое, сплоченное и бесстрашно осваивающее всё предоставленное им пространство. Это рождало мысль о преимуществах совместного существования и необходимости налаживания социальных связей. На крошечной же, как будто «игрушечной» реннской сцене им словно не хватало места, и они постоянно оказывались в одной из кулис. Это наводило на совершенно иные мысли — о том, что коллектив сковывает, мешает развитию и лишает индивидуальности. Безусловно, подобный дуализм изначально заложен в постановке греческого хореографа, но в Ренне мы уходили со спектакля с совсем другим ощущением: это было не удовольствие от красивого совместного действия, а облегчение от того, что хоть кому-то удалось избавиться от гнета коллектива.
Сцена из спектакля «Mycelium» Христоса Пападополуса
Другая важная вещь, которая зачастую не учитывается, когда мы говорим о бытовании спектакля в разных пространствах, — это контекст. Блэкбокс, размещенный в традиционном театральном здании (условно говоря, малая сцена Театра Наций в Москве) воспринимается совсем не так, как пространство для танцевальных спектаклей, созданное, например, на территории бывшего завода. Важно и то, насколько мы «переписываем» пространство бывшего завода, то есть, выражаясь языком социологии, делаем его reinscription (переадресацию) или reframing (переоформление). Можно полностью переоборудовать завод, превратив его в модное место, а можно сохранить значимые элементы, адресующие нас к его прошлому, — и это будут две совершенно разные концепции. Говоря о фреймах, то есть о том, как само пространство диктует нам манеру поведения и формирует наши ожидания, мы неизбежно придем к тому, что любая площадка, которая называется театром и находится в театральном здании, настраивает нашу оптику определенным образом: «красивое» здесь кажется уместным, ожидаемым и ещё более красивым, а любое отступление от нормы воспринимается с ещё бОльшим недоумением.
Пространство же, изначально не воспринимающееся как театральное и несущее на себе отпечаток своей былой жизни, даёт зрителям гораздо бОльшую свободу и приращение смысла, что может идти на пользу или мешать спектаклю. Пример удачного освоения пространства — танцевальный спектакль Lana испанской перформативной группы Osa+Mujika, показанный во время ежегодной театральной ярмарки dFERIA в помещении бывшей табачной фабрики в Сан-Себастьяне, переоборудованной под культурный центр Tabakalera. Эта постановка, рассказывающая о бессмысленном изнурительном труде более 40 часов в неделю ради престижа, денег и успеха, работает на нескольких уровнях — буквальном (фабрика ассоциируется с местом, где много и часто непосильно трудятся), ироническом (сейчас здесь почти никто не работает — разумеется, кроме тех, кто находится на сцене) и пост-ироническом (само пространство, которое уже мало напоминает фабрику и выглядит вполне по-хипстерски, усиливает насмешку создателей над определенной социальной группой, «помешанной» на работе).
В таких пространствах, как Tabakalera, сохранивших внешнюю форму (в частности, огромные просторные помещения и высокие фабричные потолки), но полностью сменивших начинку, вообще прекрасно смотрятся любые спектакли, связанные с игрой, экспериментом, переосмыслением шаблонов и переписыванием старых историй. Само место здесь порой провоцирует на это, «докручивая» идею за авторов и помогая ей окончательно оформиться.
В таких пространствах, как Tabakalera, сохранивших внешнюю форму (в частности, огромные просторные помещения и высокие фабричные потолки), но полностью сменивших начинку, вообще прекрасно смотрятся любые спектакли, связанные с игрой, экспериментом, переосмыслением шаблонов и переписыванием старых историй. Само место здесь порой провоцирует на это, «докручивая» идею за авторов и помогая ей окончательно оформиться.
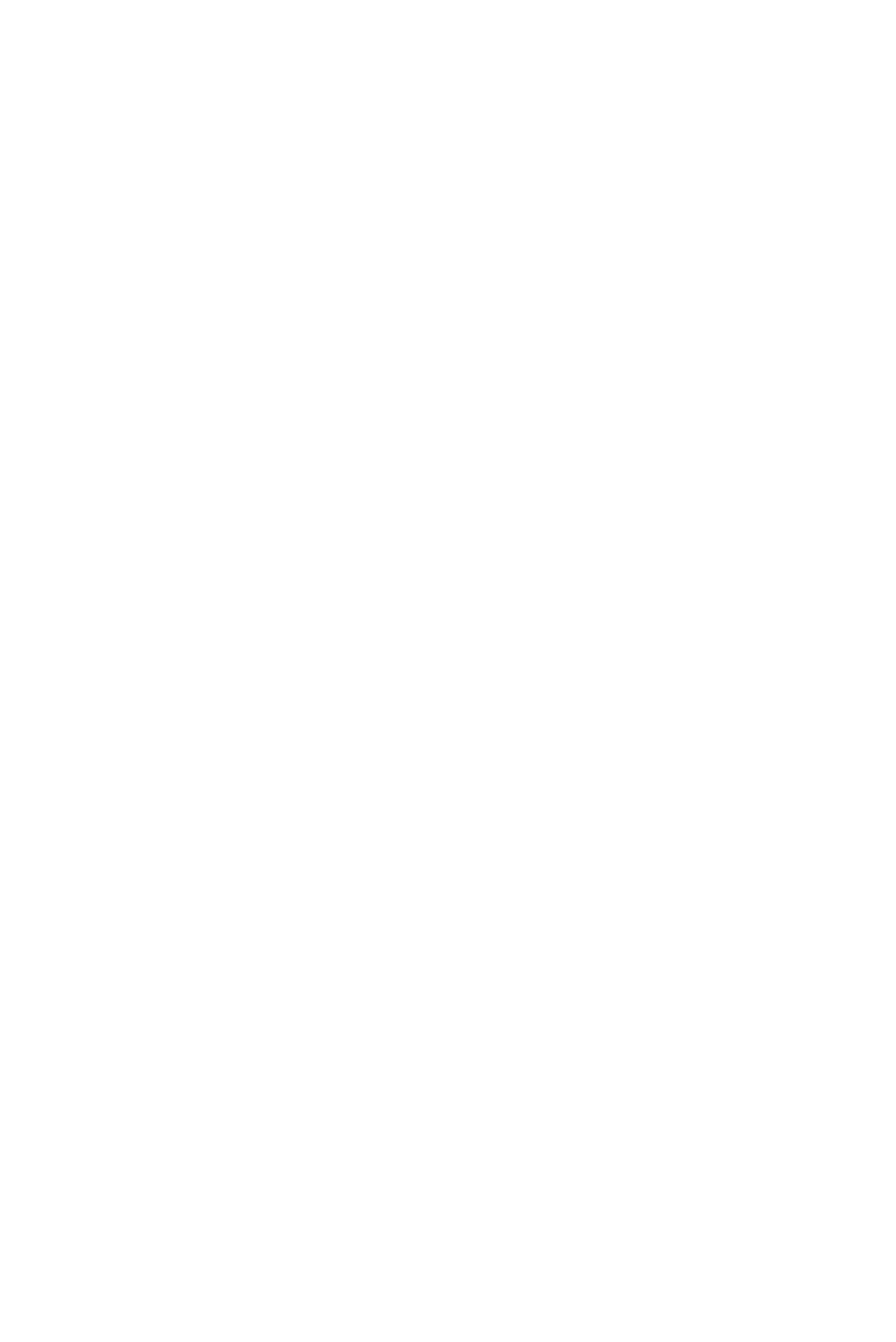
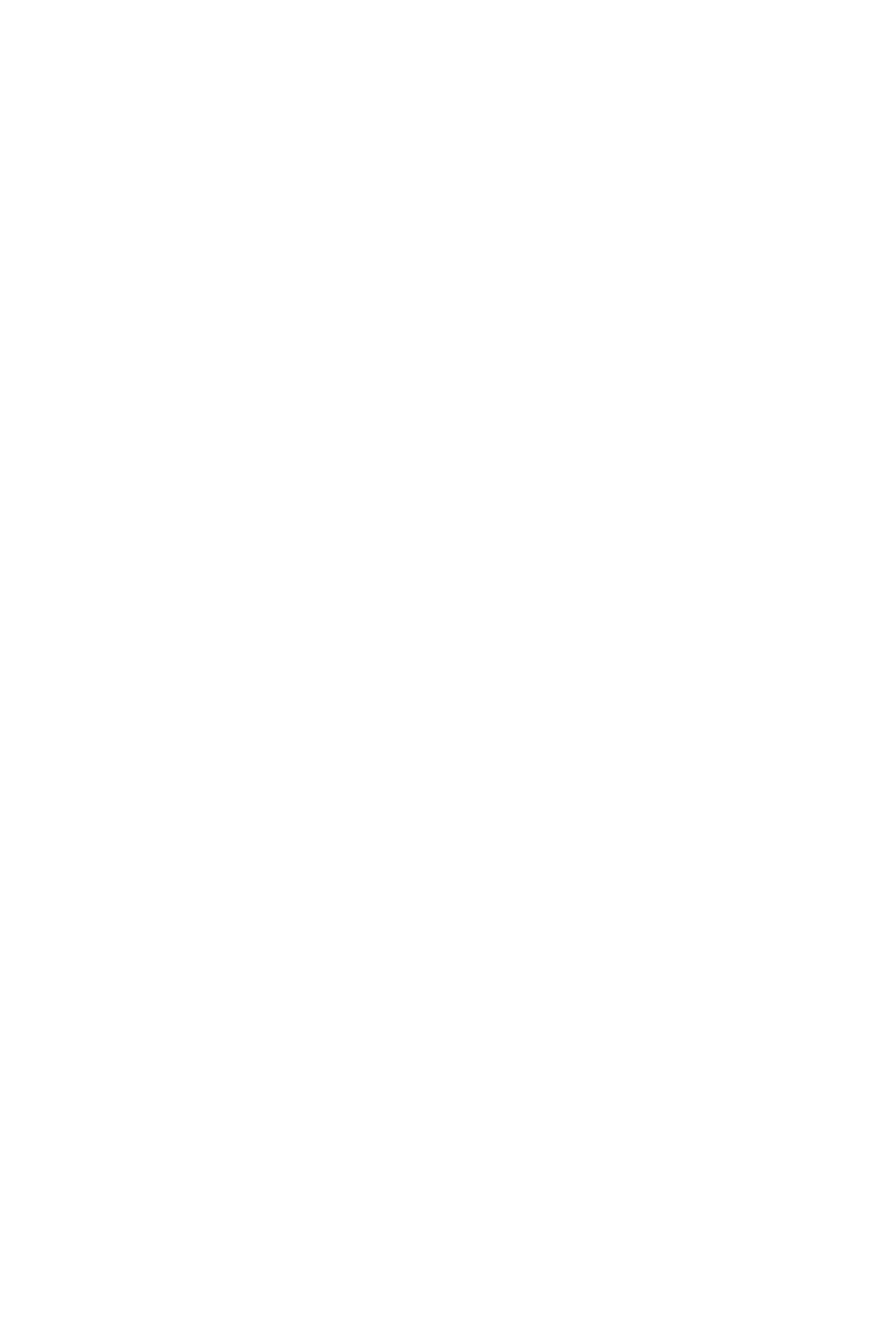
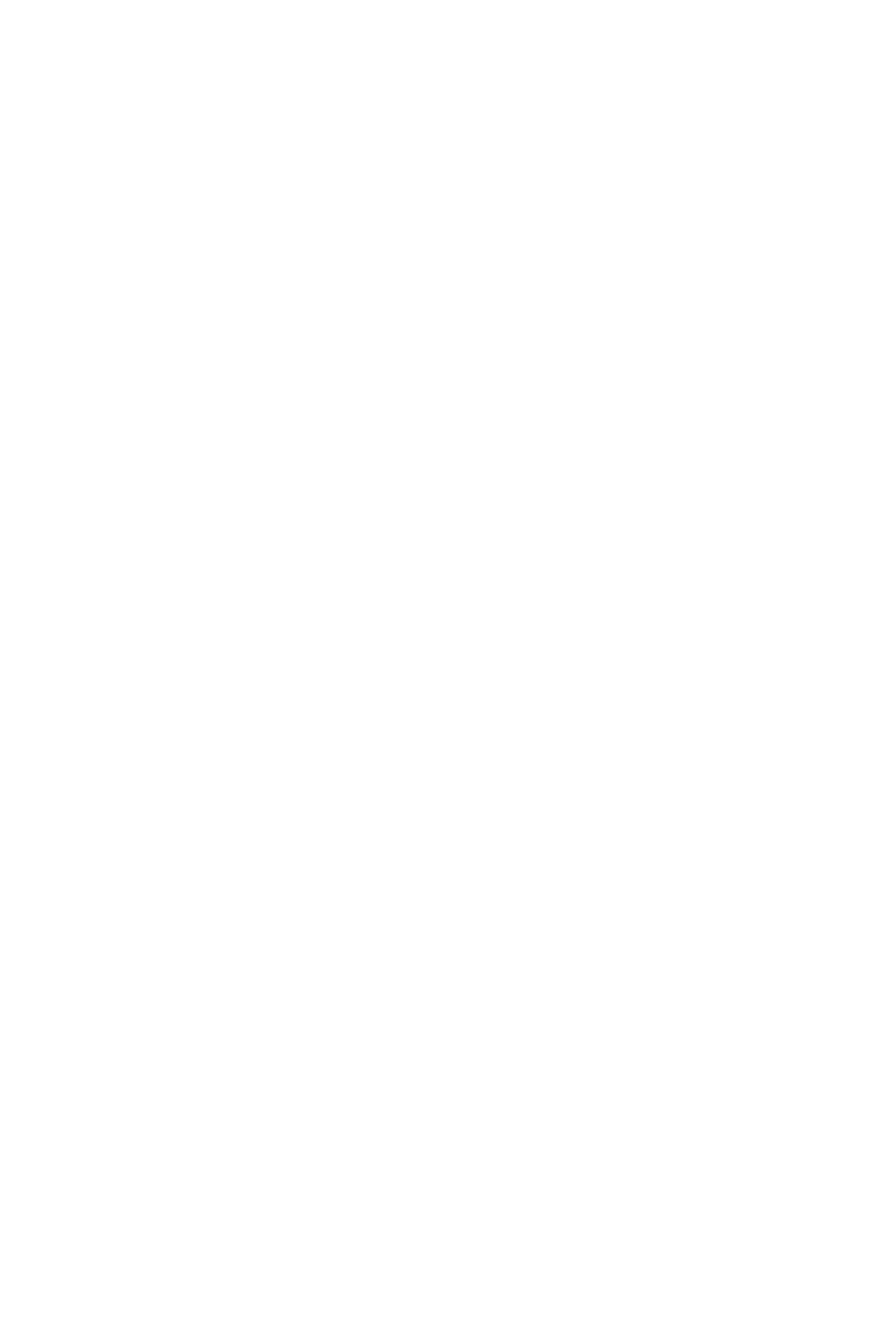
Ещё более радикальный подход к сеттингу (месту, где происходит действие) - не «переписывать» его полностью, а сохранить значимые элементы предшествующей жизни пространства. Пример такого подхода - Tanzhaus Базеля, недавно открытый на территории производственного комплекса Nestlé на окраине города. Наш просмотр танцевального моноспектакля Landless Георгиоса Коцифакиса (Georgios Kotsifakis) в постановке Христоса Пападополуса превратился в настоящее хождение по лабиринту. Для начала представители площадки показали зрителям, где в бывшем заводском комплексе находится фойе. Назвать его таковым можно лишь условно: заводское помещение по сути не переоборудовано, но театральный equipment изящно и остроумно вписан в существовавший раньше контекст. Все необходимые элементы в наличии - стойка администратора, кафе, туалет и даже гардероб, - но попадая в заведомо нетеатральное пространство, не сразу понимаешь, где тут что. Потом нас проводили в зрительный зал, и это был проход по длинному, узкому и довольно запутанному коридору.
Все это рождало неожиданные ощущения: с одной стороны, подогревало интерес к происходящему и настраивало на ожидание чего-то необычного, а с другой, вызывало чувство, что мы в гостях, не знаем правил игры и от этого более уязвимы. И хотя спектакль ещё не начался, он уже казался более подлинным и настоящим. Конечно, здесь работал не только антураж, но и сама атмосфера — запахи, влажность воздуха (на территории бывшего завода всё из бетона и, соответственно, внутри довольно сыро) и температура. В итоге нам совсем не потребовалось тех 5−10 минут, которые обычно нужны, чтобы «войти» в спектакль. Характерно, что непривычная атмосфера продолжает «действовать» на протяжении всего перформанса: привыкания к залу не происходит, и чувства остаются более обострёнными, чем обычно. Неудивительно, что Landless буквально затянул нас в себя, вызвал сильные ассоциации и оказался важным эмоциональным опытом. На символическом уровне это возвращает нас к мысли, что искусство и танец в частности — не элитарное развлечение, а повседневная практика, имеющая отношение к жизни обычных людей.
«Landless» Георгиоса Коцифакиса в постановке Христоса Пападополуса
Таким образом, принимая во внимание, что пространство (и сама площадка, и то, в какой архитектурный контекст она помещена) оказывает большое влияние на восприятие, постановщики и прокатчики танц-спектаклей могут учитывать это в своей работе. Стоит лишь помнить о том, что место действия может усилить эмоциональное впечатление, а может если не убить спектакль, то испортить впечатление, исказить смысл и вызвать раздражение у зрителей.
Opéra de Rennes считается одним из самых маленьких оперных театров в мире и вмещает лишь 642 зрителей.
Термины знаменитого канадско-американского социолога Ирвинга Гоффмана. Подробнее об этом можно прочитать в его книге "Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience".
В материале использованы фотографии с официальных сайтов:
www.jeromebel.fr
www.tanzimaugust.de/en/production/detail/ballet-lyon-mycelium
www.luganolac.ch/en/lac/programma/evento~lac~23-24~s~ldp~papadopoulos~.html