В 2005 году в рамках V Международного фестиваля «Мариинский» Диана Вишнёва дебютировала в постановке «Руки моря» Петра Зуски. Почему эта работа стала знаковой и во многом обозначила переходный период — в рассказе прима-балерины.
Мой путь — это путь ощущения танца
В моей жизни каждая встреча с хореографами, партнёрами и спектаклями никогда не была случайной. Ровно таким же судьбоносным стало знакомство и работа с Петром Зуской. В то время я была на распутье — куда и в каком направлении двигаться дальше? Имея уже достаточный опыт и широкий классический репертуар, я нашла себя и в неоклассике Уильяма Форсайта, Джорджа Баланчина, Джона Ноймайера. Однако чувствовала, что в роли лишь классической балерины мне уже тесно. Я мечтала исполнять постановки Иржи Килиана, Соль Леон и Пола Лайтфута, Ханса ван Манена. Понимала, что мой путь — это путь ощущения танца и внутреннее уже была готова к нему. Пётр помог мне сделать первый шаг. Я словно бы сбросила образ классической балерины, переродилась, не противопоставляя себя той, прежней. Появились две разные танцовщицы-Дианы, которые впоследствии стали свободно и органично существовать в этих двух мирах танца: классическом и современном.
После постановки «Руки моря» я поняла, что моя мечта исполнять произведения хореографов современного танца не только реальна, но и я готова к ним. Технически моё тело и сознание прошли определенную адаптацию.
После постановки «Руки моря» я поняла, что моя мечта исполнять произведения хореографов современного танца не только реальна, но и я готова к ним. Технически моё тело и сознание прошли определенную адаптацию.
Инициатива выступить в спектакле Зуски исходила от Мариинского театра. Тогда, в 2005 году составлялась программа для Пятого Международного фестиваля балета «Мариинский», в которой был заявлен и мой бенефис. Наряду с Тенями из «Баядерки» и спектаклем Форсайта мне предложили исполнить «Руки моря», за что я до сих пор очень благодарна.
Посмотрев кассету с записью постановки, я сразу поняла, что это моё. В сюжете увидела темы, очень созвучные с моей жизнью на тот период.
Посмотрев кассету с записью постановки, я сразу поняла, что это моё. В сюжете увидела темы, очень созвучные с моей жизнью на тот период.
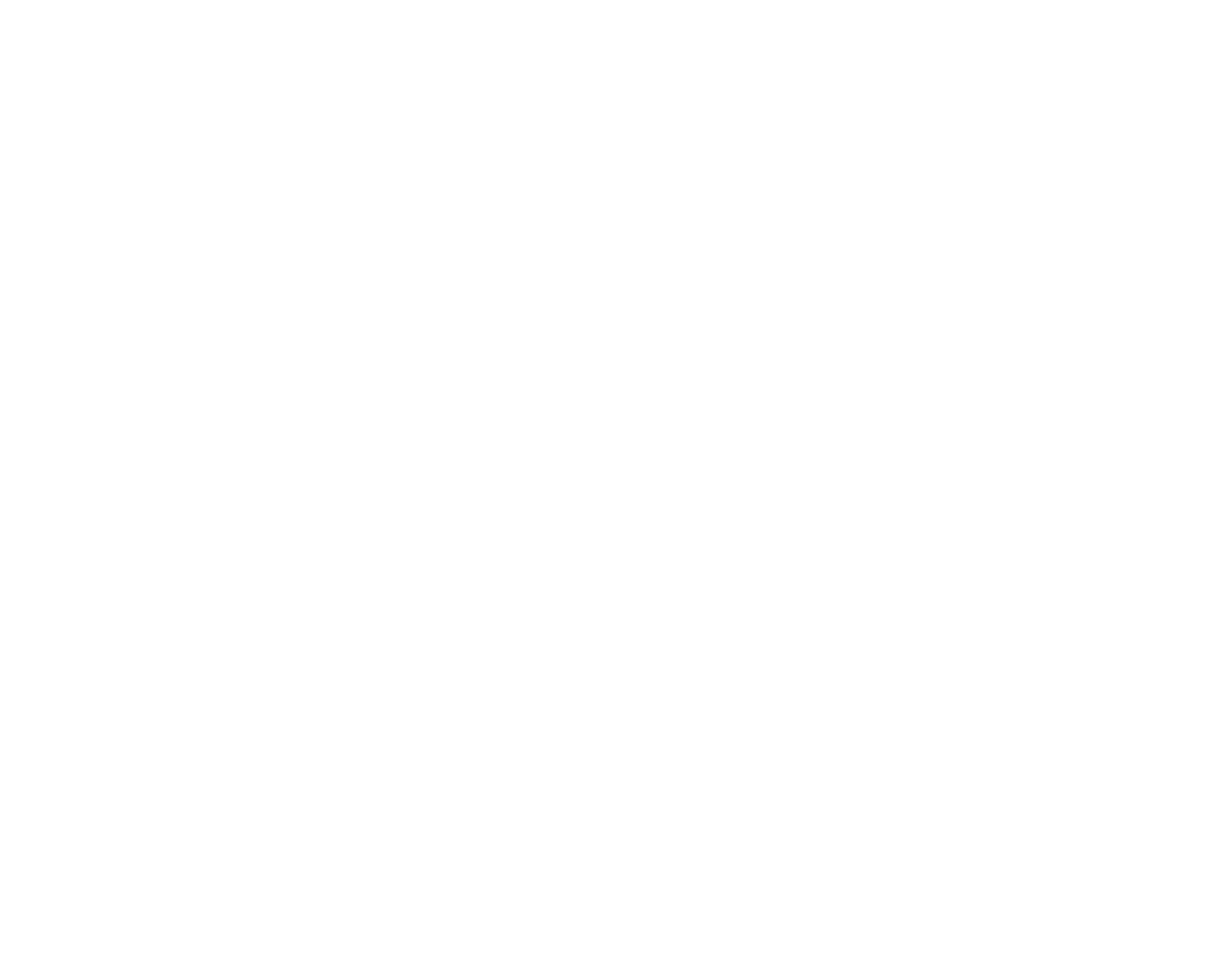
Вместо тех утрированно-возвышенных проявлений чувств любви, горести или печали, к которым я привыкла на сцене, в постановке была показана реальная жизнь. Переходить от возвышенного к простому, едва ли не на бытовом уровне, да к тому же передавая его языком искусства, стало для меня внове. В классическом спектакле я всегда ощущала себя персонажем, например, принцессой, изображающей эмоции. Мой образ чаще всего был возвышенным или абстрактным. Безусловно, в любую свою партию я всегда вкладываю душу, но выйти за рамки уже укоренившегося образа невозможно. Здесь же мне не нужно было играть, я смогла рассказать историю именно о том, что переживаю как человек и быть на сцене самой собой, без масок.
Трудности взаимоотношений между людьми напоминают приливы и отливы моря — от безграничного счастья быть вместе, до непонимания и абсолютного разрыва. В спектакле есть моменты, когда нужно держать паузу или взаимодействовать с окружающими тебя предметами. Все это уже переход на территорию драматического театра. Зуска такими же действующими лицами сделал стол и стулья. Он их словно бы оживил и наделил эмоциями, поэтому с ними нужно было учиться взаимодействовать. Каждое движение, даже простое смахивание пыли со стола, должно было быть оправданным, осмысленным. Подобная тема у меня после прозвучит в постановке Каролин Карлсон «Женщина в комнате», где тоже будет стол — ещё один герой спектакля.
Меня предостерегали, что будет трудно, ведь до этого я никогда не танцевала в мягкой обуви и в целом не владела таким стилем исполнения. Но все технические сложности лишь ещё больше раззадорили меня. Кажется, на репетиции нам отвелось всего недели две. От Петра в Мариинский театр приехала прекрасная ассистентка, которая с большой любовью досконально объясняла мне каждое движение, помогала найти именно своё и себя в постановке. Иметь возможность работать с таким репетитором — особое везение для артиста. Поэтому когда в театр приехал Пётр, я уже полностью овладела материалом.
Мы репетировали по четыре-пять часов в день. Это была каллиграфическая работа, не менее скрупулезная, чем обычно бывает над классическим спектаклем. Я получила колоссальный опыт в освоении абсолютно незнакомой техники. Например, столкнулась с тем, что должны быть сильными не только ноги и спина, но и руки. Моё тело не было готово к тому, чтобы, к примеру, опереться на руку. Классическое тело очень хрупкое, эфемерное, нацеленное на то, чтобы оторваться от земли. Здесь же, напротив, необходимо словно приклеиться к полу, происходит больше партерной работы.
Тогда я в полной мере осознала, насколько современный танец невероятно труден, если делать его честно.
Мы репетировали по четыре-пять часов в день. Это была каллиграфическая работа, не менее скрупулезная, чем обычно бывает над классическим спектаклем. Я получила колоссальный опыт в освоении абсолютно незнакомой техники. Например, столкнулась с тем, что должны быть сильными не только ноги и спина, но и руки. Моё тело не было готово к тому, чтобы, к примеру, опереться на руку. Классическое тело очень хрупкое, эфемерное, нацеленное на то, чтобы оторваться от земли. Здесь же, напротив, необходимо словно приклеиться к полу, происходит больше партерной работы.
Тогда я в полной мере осознала, насколько современный танец невероятно труден, если делать его честно.
Подробнее о Петре Зуске
Чешский хореограф, танцовщик и педагог. С 2002 по 2017 год являлся художественным руководителем балета Национального театра в Праге.
Свою артистическую карьеру начал в труппе «Пантомима на забрадли» основателя чехословацкой школы классической и современной пантомимы Ладислава Фиалки (1987–1989гг.). С 1992 по 1998 год являлся солистом балета Национального театра в Праге. Также выступал в составе Мюнхенского балета, танцевальной труппе Аугсбургского театра. Был солистом Les Grands Ballets Canadiens в Монреале, Канада.
За время своей танцевальной карьеры исполнял не только в балеты классического наследия, но постановки Иржи Килиана, Элвин Эйли, Матса Эк, Ханса ван Манена, Кристофера Брюса, Охада Наарина, Начо Дуато, Ицика Галлили и других мэтров современной хореографии.
Создал более шестидесяти постановок для самых разных танцевальных компаний и театров. В 2005 году был приглашен Мариинским театром для работы с Дианой Вишнёвой над постановкой «Руки моря».
Свою артистическую карьеру начал в труппе «Пантомима на забрадли» основателя чехословацкой школы классической и современной пантомимы Ладислава Фиалки (1987–1989гг.). С 1992 по 1998 год являлся солистом балета Национального театра в Праге. Также выступал в составе Мюнхенского балета, танцевальной труппе Аугсбургского театра. Был солистом Les Grands Ballets Canadiens в Монреале, Канада.
За время своей танцевальной карьеры исполнял не только в балеты классического наследия, но постановки Иржи Килиана, Элвин Эйли, Матса Эк, Ханса ван Манена, Кристофера Брюса, Охада Наарина, Начо Дуато, Ицика Галлили и других мэтров современной хореографии.
Создал более шестидесяти постановок для самых разных танцевальных компаний и театров. В 2005 году был приглашен Мариинским театром для работы с Дианой Вишнёвой над постановкой «Руки моря».
Зуска появился в дуэте со мной во многом благодаря стечению обстоятельств. Мы долго искали партнёра среди артистов Мариинского театра, но что-то постоянно не складывалось, поэтому решили, что Пётр выступит сам.
Он приехал, буквально, дня за два до спектакля, поэтому у нас не оставалось времени что-либо обсудить, узнать друг друга поближе, наконец, поговорить по душам. Однако нам сразу удалось нащупать, почувствовать общий язык тел. Мы настолько оказались увлечены работой, что никаких проблем во взаимопонимании не испытывали.
До сих пор удивляюсь тому, насколько взаимодействие с Петром и его ассистентом походило больше на работу в какой-либо зарубежной танцевальной компании, а не в родной Мариинке. Театр дал нам полную свободу, я не зависела от труппы, ведь в спектакле всего два персонажа. Для меня это стало одним из первых опытов индивидуальной, даже лабораторной работы с хореографом.
Он приехал, буквально, дня за два до спектакля, поэтому у нас не оставалось времени что-либо обсудить, узнать друг друга поближе, наконец, поговорить по душам. Однако нам сразу удалось нащупать, почувствовать общий язык тел. Мы настолько оказались увлечены работой, что никаких проблем во взаимопонимании не испытывали.
До сих пор удивляюсь тому, насколько взаимодействие с Петром и его ассистентом походило больше на работу в какой-либо зарубежной танцевальной компании, а не в родной Мариинке. Театр дал нам полную свободу, я не зависела от труппы, ведь в спектакле всего два персонажа. Для меня это стало одним из первых опытов индивидуальной, даже лабораторной работы с хореографом.
Полная запись спектакля