Сила Шрёдингера
В апреле 2025 года в Мариинском театре вышли «Танцсцены» — балет Славы Самодурова на музыку Игоря Стравинского. Эта постановка — возвращение Самодурова на сцену, где он начинал и как артист, и как хореограф. В июне 2025 года премьера доехала до Москвы.
Тата Боева отправилась на вечер имени Игоря Стравинского в Большом, чтобы узнать, как сейчас ставит один из основных российских хореографов, и что можно расслышать в его работе.
Тата Боева отправилась на вечер имени Игоря Стравинского в Большом, чтобы узнать, как сейчас ставит один из основных российских хореографов, и что можно расслышать в его работе.
Вечное возвращение
Уже два сезона Слава Самодуров — фрилансер. Уйдя с позиции худрука балета театра «Урал Опера Балет» после сезона 2022/2023 и будучи одним из самых титулованных действующих российских балетных авторов, он, возможно, вопреки ожиданиям и уж точно вопреки быстро сложившейся с весны 2022 года практике не начал ставить по пять премьер в сезон. Сперва был длинный, почти в год, перерыв между Sextus Propertius, прощанием с 12 годами лидерства, труппой и командой, и «598 тактами», первым спектаклем после Урал Балета, и четыре новых постановки за 2023/2024 и 2024/2025. Вольный Самодуров не спешит даже на уровне частоты появлений связывать себя с новым коллективом и пока равномерно работает с самыми разными труппами. Рядом оказываются статусный Большой и амбициозный, но камерный балет Якобсона, локальные любимцы МАМТ и имперская балетная вотчина — Мариинский. После 12 лет практически полной верности Екатеринбургу настало время неприкреплённости.
Покинув физическую, осязаемую точку лояльности, театр и его коллектив, хореограф, похоже, нашёл новую — свои идеи. Благо, за годы активности в качестве постановщика их накопилось, с одной стороны, изрядно, и, с другой, среди всего наставленного и отрефлексированного явно выделились любимые предметы.
Покинув физическую, осязаемую точку лояльности, театр и его коллектив, хореограф, похоже, нашёл новую — свои идеи. Благо, за годы активности в качестве постановщика их накопилось, с одной стороны, изрядно, и, с другой, среди всего наставленного и отрефлексированного явно выделились любимые предметы.
Безусловно, и интерес, и признание Самодурова-постановщика начались до 2011 года, когда тот прибыл в Екатеринбург руководить местной труппой. «Главная приманка вечера <…> получасовая изысканная хореографическая зарисовка на извечную тему взаимоотношений мужчины и женщины <…> безупречное владение формой… выдаёт… самобытного танцевального оратора». Так, например, писала Ольга Федорченко для Коммерсанта о самодуровских «Минорных сонатах» в Михайловском театре. С ними танцовщик и в тот момент начинающий хореограф вернулся в Россию в 2010-м после работы в Лондоне и завершения артистической карьеры и заново привлёк внимание. Но массовое — если в современном балете вообще такое возможно — признание пришло, когда хореограф возглавил танцевальную труппу тогда ещё Екатеринбургского театра оперы и балета и начал ставить один за другим спектакли о балете как сущности. Сущность эта часто оказывалась если не злобной, то как минимум требовательной и способной своей мощью снести с пути отдельного человека. Вместе с постоянной деконструкцией тела, сначала балетного, а потом и любого подвижного, отношение к балету стало темой Самодурова.
Вместе с постоянной деконструкцией тела, сначала балетного, а потом и любого подвижного, отношение к балету стало темой Самодурова.
Магистральной, но не единственной. Вероятно, как минимум потому, что у государственного репертуарного театра, притом единственного театра именно пуантового танца в городе, есть масса текущих задач — от известных спектаклей на семейную аудиторию, которые настигают любых худруков, до необходимости занимать артистов в постановках с разным лексиконом. Если посмотреть на полный список постановок Самодурова, сольных и совместных, выпущенных в Урал Балете, и протэгировать их, выясняется, что хореограф, конечно, размышлял о роли балета много, вероятно, больше чем кто-либо из действующих в тот же период российских хореографов, но возвращался к сюжету волнообразно.
Перелом случился после большого пандемийного перерыва. Не ставивший около полутора лет Самодуров начал 2021 год с обновления одного из своих главных балетов о балете, «Вариации Сальери». А с сезона 2021/2022 больше не отходил от размышлений о движении, игры с телом как системой.
Перелом случился после большого пандемийного перерыва. Не ставивший около полутора лет Самодуров начал 2021 год с обновления одного из своих главных балетов о балете, «Вариации Сальери». А с сезона 2021/2022 больше не отходил от размышлений о движении, игры с телом как системой.
Любопытно, что в этот период постановщик, который во многом сделал себе имя спектаклями о балете как сломанном механизме, в который всё же стоит верить, именно от коронного сюжета отошёл. Эру «самодуровского балетного» завершила, как долго выглядело, «Танцемания» в Большом. А вышедший до неё «Дар» запустил эру «самодуровского телесного» — спектаклей, где паттерны и разрушение двигательных привычек оказывались в центре внимания. После того, как «Дар» и последовавшие за ним Ultima Thule иSextus Propertiusобразовали триптих, заодно подытожив работу Самодурова в Екатеринбурге, явные тематические блоки завершились. Итак, мы в конце сезона 2024/2025. Уже два сезона Слава Самодуров — хореограф-фрилансер. И он вернулся — в Мариинский театр и к разговору о балете.
Зеркало сцены
«Танцсцены», как бы это странно ни звучало, дебют Самодурова-хореографа в Мариинском — театре, который вписан в его биографию как одна из основных отметок. Самодуров учился в Вагановке, прочно связанной с Мариинским, и танцевал в театре с 1992 по 2000 год, после чего переехал сначала в Нидерланды, затем в Великобританию, вернувшись в Россию, ставил в петербургских труппах. Но не в Мариинском: максимум его спектакли выходили на этой сцене. Всего 25 лет не-работы с театром — и Самодуров вернулся.
Слишком соблазнительно много раз сказать «логично, что…». Логично, что для дебюта выбрали Симфонию in C Игоря Стравинского, которую американский исследователь Лоуренс Эллиот Либин обозначил как произведение, далёкое только от пародии на классический стиль — то есть то, что должно было или могло стать преимущественно пародией, но вышло из берегов и оказалось больше задачи.
Слишком соблазнительно много раз сказать «логично, что…». Логично, что для дебюта выбрали Симфонию in C Игоря Стравинского, которую американский исследователь Лоуренс Эллиот Либин обозначил как произведение, далёкое только от пародии на классический стиль — то есть то, что должно было или могло стать преимущественно пародией, но вышло из берегов и оказалось больше задачи.
Логично, что этой партитурой занялся именно Самодуров — хореограф, который бесконечно развинчивает всё традиционное, что попадает ему в руки, изучает внутренности и собирает заново. Логично, что это произошло в Мариинском — театре, изнутри которого пошло несколько традиций, сперва перевернувших балет, а затем застывших до состояния незыблемого канона. Логично, что это произошло в нынешнем Мариинском, — театре, который ещё относительно недавно был полон энергии, выпускал, возможно, самые громкие премьеры в стране, в последние лет 10 значительно сбавил обороты, а в последние годы даже почти перестал выпускать балетные премьеры, рутинизировал собственный репертуар. Наконец, логично, что темой «Танцсцен» стал вернувшийся в идейное поле Самодурова балет как система, как тип отношений и как восприятие тела. Возможно, логично. А возможно — стечение обстоятельств. Однако запомним: хореограф, который на вольных хлебах принялся пересобирать движущееся тело, впервые с 2018 года вновь взялся за рассуждения о том, жизнеспособен ли пуантовый танец. И сделал это в самой что ни на есть цитадели этого самого танца.
Танец устал
«Хочется ощущение усталости», — говорит Самодуров на камеру, объясняя Кимин Киму, каким должно быть его состояние на сцене. Точнее даже не состояние, а впечатление, материализованное в кондиции мышц, положении тела в пространстве. Впрочем, состояние — тоже верное слово, потому что не всякие поникшие плечи и висящие руки передают именно усталость.
Усталость — слово, которое хорошо характеризует происходящее в «Танцсценах»; причём как задумку, так и отношение с большим миром танца. Это размышление в четырёх частях о том, что балет в виде, который мы знаем, выдохся, современный танец, пожалуй, тоже, и даже их соединение, которое когда-то было средством спасения, больше не помогает. Усталость умножить на усталость равно смертельная усталость — которой (уснуть и видеть сны), спойлер, завершается спектакль.
Усталость — слово, которое хорошо характеризует происходящее в «Танцсценах»; причём как задумку, так и отношение с большим миром танца. Это размышление в четырёх частях о том, что балет в виде, который мы знаем, выдохся, современный танец, пожалуй, тоже, и даже их соединение, которое когда-то было средством спасения, больше не помогает. Усталость умножить на усталость равно смертельная усталость — которой (уснуть и видеть сны), спойлер, завершается спектакль.
Возможно, это самая пессимистичная постановка Самодурова в жанре «балет о балете» на сегодня
Возможно, это самая пессимистичная постановка Самодурова в жанре «балет о балете» на сегодня. Другие постановки хореографа, даже выводившие на сцену сломанный (первые «Вариации Сальери»), выматывающий («Занавес»), не самый дружелюбный («Танцемания»), марионеточный («Озорные частушки») или вовсе застрявший в полужизни («598 тактов» и «Перигелий») мир балета, оставляли надежду. Под занавес движение наполнялось силой, энергией и движок вновь заводился. «Танцсцены» же завершаются буквальным возложением всех на алтарь искусства, буквализацией горинского мема «в общем, все умерли» — и в руках Славы Самодурова, который как только не развинчивал танец за годы активной хореографической работы, это выглядит почти как приговор. В том числе, возможно, самой фигуре хореографа, который воссоздаёт балетные миры.
«Танцсцены» состоят из четырёх больших сегментов, каждый из которых изучает одну из стадий уставания балета как системы. Первая, большая ансамлевая, вводит основных персонажей и показывает их как изначально поражённых бациллой бессилия. Танцовщик внезапно замирает посреди сцены, смотрит пусто в пространство и зависает как заглючившая машина. Кордебалет продолжает пахать, но больше похож на шестерёнки, чем на людей. Прима продолжает быть ослепительной, но это перешло грань и больше пугает. Есть напитанная энергией пара — но именно она, снова спойлер, в финале вся умрёт. Следующие три — скетчи существования разных «слоев» танцевального мира, которые объединяет всё то же ощущение глобальной усталости. Под стать Самодуров выбрал и один из ключевых пластических мотивов: опавшие шеи, размякшие корпуса, тяжёлые, будто полные мокрого песка, руки, тянущие всё тело к земле. В разных видах это состояние возникает во всех частях.
Это не первая подобная проба: подобный референс встречался и в «598 тактах», которые в 2024 году открыли новую эру Самодурова, как формальную, так и идейную. Но «Такты» завершались хаотической, витальной энергией, движением диким, но симпатичным. Усталость там была одним из рефренов, но в ней была большая энергетическая заряженность. Будто тело истощается, но обладатели жахнули кофеин и пошатываясь, но держатся. Возможно, выстоят. «Танцсцены» же показывают мир, где усталость больше не проходит.
Это не первая подобная проба: подобный референс встречался и в «598 тактах», которые в 2024 году открыли новую эру Самодурова, как формальную, так и идейную. Но «Такты» завершались хаотической, витальной энергией, движением диким, но симпатичным. Усталость там была одним из рефренов, но в ней была большая энергетическая заряженность. Будто тело истощается, но обладатели жахнули кофеин и пошатываясь, но держатся. Возможно, выстоят. «Танцсцены» же показывают мир, где усталость больше не проходит.
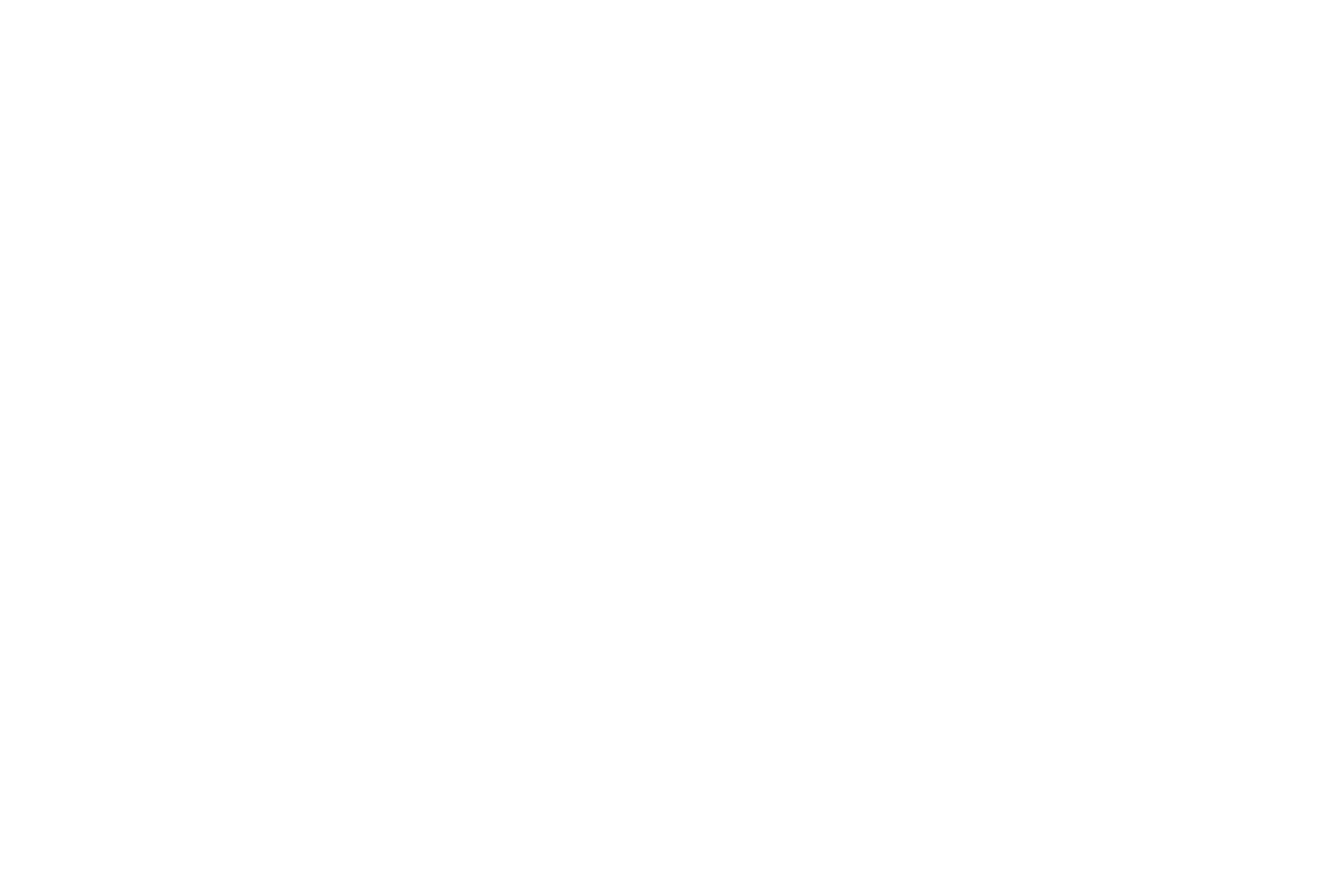
ШАКИРОВА ТАНЦУЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ОДУШЕВЛЁННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ БАЛЕТ — СУЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ИЗ СОЕДИНЕНИЯ ВЫСОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ГОТОВНОСТИ БРАТЬ ВЕРШИНЫ И РАЗВЯЗНОСТИ, УМЕНИЯ БЫТЬ СОБОЙ.
Наиболее показательна в этом смысле четвёртая часть — самая многообещающая, если верить первому сегменту-превью. В ней действует неназванная пара, которую танцуют Рената Шакирова и Кимин Ким. Шакирова, танцовщица огненная, темпераментная, способная придать своим жестам такую концентрацию силы, что, кажется, под её пуантами может начать плавиться сцена, здесь действует как миниатюрный вихрь. Широкие, амплитудные движения, высоко, в эйфмановском духе, вскинутые ноги, пробивающий пространство корпус, свобода и безбашенность — как будто затухавшему в предыдущих частях классическому танцу (выверенные, но механистичные танцовщицы второй части, слишком кукольная, неживая прима в исполнении Мей Нагахисы в третьей) вкололи хорошую дозу адреналина. Шакирова танцует практически одушевлённый современный балет — сущность, которая получается из соединения высоких возможностей, готовности брать вершины и развязности, умения быть собой. Её присутствие и в первой ансамблевой части, и в четвёртой «персональной» как будто обещает, что средство взбодрить балет нашлось, что изобретён танцевальный вечный двигатель. За ней тянется поникавший кордебалет, усталый персонаж Кимина Кима — тот самый, исполняя которого артист должен был добиться ощущения измотанности, с которого началась эта подглава. Однако «Танцсцены» ломаются. Возникает очередная подчёркнутая цитата, гора из тел танцовщиц, напоминающая иконическую мизансцену из «Свадебки» Брониславы Нижинской, но не стоящая, а бессильно обмякающая на пол, — и действие, до того полное силы, тоже резко устаёт. Только что летевшая в прыжках Шакирова опирается на партнёра, оббредает сцену — и оказывается возложенной на груду кордебалетных. Как будто завершилось действие адреналина — или он, известный также как гормон стресса, оказался пагубным и привёл к полной остановке сердца.
Отражение в отражении
Смерть вслед за искусственно привнесённой жизнью в «Танцсценах» — не только часть бессюжетного сюжета на сцене, но и особенность хореографического устройства. Это балет Славы Самодурова, многократно повторённый, переработанный и заново поставленный.
Когда год назад Большой театр выпустил «Бурю» Юрия Красавина в постановке Самодурова, это уже был балет балетов одного автора. Та постановка выглядела как плодотворный диалог с собой, ревизия собственных средств, накопленных за 12 лет работы преимущественно с одной труппой.
«Российский балет все ищет и ищет мастеров, на которых можно опереться, принять за образец. Возможно, у нас есть человек, готовый ответить: «А царевич этот — я».
Так я завершила рецензию на «Бурю», видя в этом балете новое начало известного (во всех смыслах; но в первую — как творческую фигуру) хореографа, который начал новую эру. За прошедший с тех пор сезон можно говорить, что ревизия, возможно, оказалась не расхламлением или упорядочиванием архива, а прощальным взглядом на бывшее.
«Я сижу у окна. Вспоминаю юность. Улыбнусь порою…».
Когда год назад Большой театр выпустил «Бурю» Юрия Красавина в постановке Самодурова, это уже был балет балетов одного автора. Та постановка выглядела как плодотворный диалог с собой, ревизия собственных средств, накопленных за 12 лет работы преимущественно с одной труппой.
«Российский балет все ищет и ищет мастеров, на которых можно опереться, принять за образец. Возможно, у нас есть человек, готовый ответить: «А царевич этот — я».
Так я завершила рецензию на «Бурю», видя в этом балете новое начало известного (во всех смыслах; но в первую — как творческую фигуру) хореографа, который начал новую эру. За прошедший с тех пор сезон можно говорить, что ревизия, возможно, оказалась не расхламлением или упорядочиванием архива, а прощальным взглядом на бывшее.
«Я сижу у окна. Вспоминаю юность. Улыбнусь порою…».
У всякого балета есть минимум два лица. Одно — сиюминутное, то, как спектакль показывается сегодня: сам по себе, среди других премьер, среди внешних событий. Второе — образ, который постановка принимает в череде других вещей конкретного автора, как часть индивидуального театрального мира. «Танцсцены» в первом случае — произведение крепкое, сделанное уверенной рукой и мыслью человека, который, даже говоря, что хороший балет не должен описываться словами, неизменно находит способ сформулировать, сконцентировать что-то, что отражает танцевальное сегодня. «Танцсцены» во втором случае — сущность, больше напоминающая усталое перелистывание альбома имени себя.
Самодуров как будто ставит сам под себя. Выбирает приёмы, которые когда-то лучше всего показали себя в работе. Вот сбивающая с ног бескомпромиссная линия серебряных дисков — будто лупящие в глаза фары большегруза на ночной трассе или, что гораздо ближе к тематике, резко вспыхнувшая линия софитов. Вот горизонтальные неоновые линии, прорезающие воздух повыше пола. Вот сломанные марионеточные артисты, которые повисают на невидимых нитях. Вот артисты-механические куклы. Вот сникшие артисты. Вот кислотных оттенков пачки и нарочито небрежные костюмы. Всё это уже было, и не где-то, а в руках конкретного автора. Мы не только в метамире балета. Мы в метапостановке Самодурова, которая корчится изнутри, пытается ожить, найти обновление, сделать себе спасительную, перезапускающую инъекцию — и погибает под грузом цитат и усталости.
Самодуров как будто ставит сам под себя. Выбирает приёмы, которые когда-то лучше всего показали себя в работе. Вот сбивающая с ног бескомпромиссная линия серебряных дисков — будто лупящие в глаза фары большегруза на ночной трассе или, что гораздо ближе к тематике, резко вспыхнувшая линия софитов. Вот горизонтальные неоновые линии, прорезающие воздух повыше пола. Вот сломанные марионеточные артисты, которые повисают на невидимых нитях. Вот артисты-механические куклы. Вот сникшие артисты. Вот кислотных оттенков пачки и нарочито небрежные костюмы. Всё это уже было, и не где-то, а в руках конкретного автора. Мы не только в метамире балета. Мы в метапостановке Самодурова, которая корчится изнутри, пытается ожить, найти обновление, сделать себе спасительную, перезапускающую инъекцию — и погибает под грузом цитат и усталости.
впечатление от «Танцсцен» как огромного сборника референсов имени Славы Самодурова — эффект Манделы на театре
Справедливости ради, стоит сказать, что впечатление от «Танцсцен» как огромного сборника референсов имени Славы Самодурова — эффект Манделы на театре. Если начать сравнивать покадрово, выяснится, что раньше не было ни точно такой линии, ни таких комбинаций. Не будут биться воспоминания о смыслах балета и его виде — как, например, прима Мей Нагахисы, которая, по идее, должна быть двойником персонажей одного из ранних самодуровских спектаклей в Екатеринбурге, тройчатки «Цветоделика», но нигде не было точно такого образа. Однако отсутствие конкретных повторов не означает, что не существует повторения в целом. «Танцсцены» возвращают к визуальным и хореографическим приёмам, которые Самодуров не раз практиковал, делал это в предыдущие этапы — и, вкупе с всё более явным мотивом смерти балета, неизбежной, но, возможно, обратимой (как говорится, узнаем в следующих сериях), это даёт повод для размышления большего, чем сам спектакль, большего, чем его место в творческой биографии и даже большего, чем корпус работ одного автора.
Цитаты, опора на прошлое, рефлексия о балете, возвращающие образы — всё это укладывается в родовые особенности неоклассики. Направления, на котором Самодуров во многом был воспитан как артист в 1990-е в Мариинке и в 2000-е в своей зарубежной работе, которое в довольно неканоническом виде практиковал в Екатеринбурге в 2010—2020-е. А также направления, которое во многом утвердил в России Мариинский театр, создав его громкий культ, взрастивший (наконец) поколение местных хореографов-неоклассиков. И постепенно превратил непокойное, задающее балету неудобные вопросы направление в памятник самому себе. В уютную отстранённую «геометриоматематику», где можно бесконечно перебирать и комбинировать движения, накладывать на них музыку — и не спрашивать, почему сегодня так танцуют.
Лечь на алтарь
В Москву «Танцсцены» приехали как часть фестиваля Игоря Стравинского — бишь Мариинский собрал балеты на музыку одного композитора и так получил гастрольную программу. В сезоне 2024/2025 такую логику носят, невзирая на то, что балет — искусство, конечно, музыкальное, но хореография в нём первична, а не болтается зачем-то над вдохновенным оркестром. Стравинский — из тех авторов, к которым пиетет достигает ровного того размера, чтобы и браться за разные его вещи, и заказывать их не только мэтрам. Так в один вечер попали, собственно, самодуровские «Танцсцены», и два опуса Ильи Живого, хореографа, который вырос внутри Мариинского театра и преимущественно ставит для него же.
Несмотря на поколенческую разницу, оба технически относятся к одному направлению — петербургская школа, которую значительно подпитала американская неоклассика. Безусловно, между Самодуровым, на чью работу в Мариинском пришлось самое начало активного освоения Баланчина, и Живым, который работал в театре в зените и на излёте баланчинско-форсайтовского проекта, немало различий — начиная со степени влияния неоклассики и завершая типом её восприятия.
Несмотря на поколенческую разницу, оба технически относятся к одному направлению — петербургская школа, которую значительно подпитала американская неоклассика. Безусловно, между Самодуровым, на чью работу в Мариинском пришлось самое начало активного освоения Баланчина, и Живым, который работал в театре в зените и на излёте баланчинско-форсайтовского проекта, немало различий — начиная со степени влияния неоклассики и завершая типом её восприятия.
И соединение спектаклей Живого, созданных в 2018 и 2020 годах, и новейшей на момент написания текста постановки Самодурова, которое случилось на почве подбора балетов по музыке, позволяет не столько увидеть разных авторов в один вечер, сколько порефлексировать, откуда в том числе в сценической практике берётся мысль «балет устал, балет уходит».
«Воспитанные на почитании «школы переживания», артисты стремятся найти в бессюжетном балете скрытый сюжет (или хотя бы психологический подтекст), выявить его и его танцевать«.
Заменить «артисты» на «хореографы», а «танцевать» на «ставить» — и получилось бы точное описание «Пульчинеллы» и «Игры в карты» Ильи Живого, которые выбрал для гастролей Мариинский театр. Однако выдержке — 30 с гаком лет, и Инна Скляревская так характеризовала манеру исполнения только приживавшихся в России неоклассических балетов. За это время вид русской неоклассики не только не эволюционировал, но и породил местных постановщиков, которые производят уже собственную продукцию по тому же принципу. «Пульчинелла» и «Игра в карты» выглядят как образцовые постбаланчинские вещи — узнаваемые па и композиционные приёмы, узнаваемая лаконичная обстановка. Однако к этому прибавлена достаточно густая актёрская игра. Не такая, как в советском наследии, но достаточно интенсивная, чтобы превратить и сюжетного (хотя бы) «Пульчинеллу», и абстрактную «Игру в карты» в маленькие драмбалетики, где обязательно выделить персонажей, придумать им характер и дать задание артистам соответствующе хлопотать лицом. Неоклассика, вообще-то бунтарское направление, которое проверяло на прочность обросший декором классический балет, смотрело, что будет с королём, если его во всех смыслах раздеть, придя в Россию, не выдержало скрещивания с местными образцами танца и местного отношения к уже существующим образцам как к безусловным, и закостенела. Превратилась в метод без внутреннего содержания, в движения-«слова» на мёртвом языке, где есть правила и принятые формы, но нет развития, нет нарушения. А когда они случаются — быстро превращаются в часть каменного слоя.
«Воспитанные на почитании «школы переживания», артисты стремятся найти в бессюжетном балете скрытый сюжет (или хотя бы психологический подтекст), выявить его и его танцевать«.
Заменить «артисты» на «хореографы», а «танцевать» на «ставить» — и получилось бы точное описание «Пульчинеллы» и «Игры в карты» Ильи Живого, которые выбрал для гастролей Мариинский театр. Однако выдержке — 30 с гаком лет, и Инна Скляревская так характеризовала манеру исполнения только приживавшихся в России неоклассических балетов. За это время вид русской неоклассики не только не эволюционировал, но и породил местных постановщиков, которые производят уже собственную продукцию по тому же принципу. «Пульчинелла» и «Игра в карты» выглядят как образцовые постбаланчинские вещи — узнаваемые па и композиционные приёмы, узнаваемая лаконичная обстановка. Однако к этому прибавлена достаточно густая актёрская игра. Не такая, как в советском наследии, но достаточно интенсивная, чтобы превратить и сюжетного (хотя бы) «Пульчинеллу», и абстрактную «Игру в карты» в маленькие драмбалетики, где обязательно выделить персонажей, придумать им характер и дать задание артистам соответствующе хлопотать лицом. Неоклассика, вообще-то бунтарское направление, которое проверяло на прочность обросший декором классический балет, смотрело, что будет с королём, если его во всех смыслах раздеть, придя в Россию, не выдержало скрещивания с местными образцами танца и местного отношения к уже существующим образцам как к безусловным, и закостенела. Превратилась в метод без внутреннего содержания, в движения-«слова» на мёртвом языке, где есть правила и принятые формы, но нет развития, нет нарушения. А когда они случаются — быстро превращаются в часть каменного слоя.
«Танцсцены», где дисциплинированный танец механистичен, свободный танец ведёт в тупик бесконечной рефлексии, а соединение и отдача друг другу части свойств, соединение блеска и энергию, лишь ненадолго реанимируют «пациента», после чего все всё равно упадут на алтарь искусства, в каком-то смысле идеальное резюме сложившегося вечера и ситуации в танце в целом. Можно сколько угодно и откуда угодно добывать живую силу и вливать её, ожидая ренессанса. Однако если основа имеет привычку мертветь, выхолащивать всё, что её касается, результат не изменится. Балет жив или мёртв? Возможно, стоит прислушаться к одному из ключевых российских хореографов, человеку с достаточно точным чувством момента, в чьих спектаклях в последнее время движущееся тело с пугающей регулярностью напоминает то куклу, то распадающийся труп, и подумать, что за танец Шрёдингера такой мы наблюдаем. Есть ли ключ к этой чёрной коробке, кто именно в ней заперт, в каком состоянии.
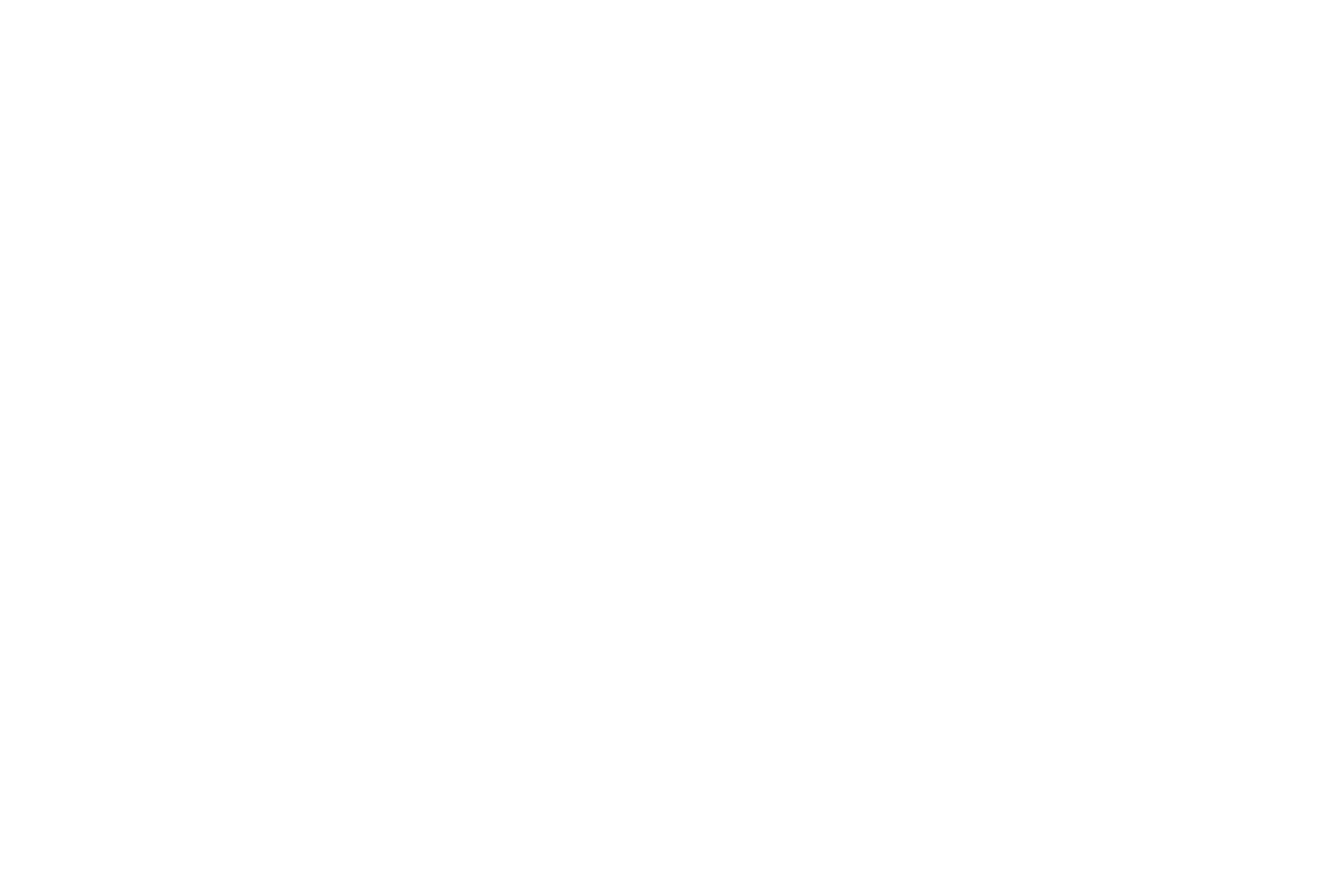
Вместо постскриптума.
И только чувства живы.
И только чувства живы.
Механистичность движения, распад тела на глазах зрителей, нарастающая усталость копились в балетах Самодурова в 2020-е годы и коллапсировали в «Танцсцены». Однако в пространстве пластической смерти всё ещё остались живые крупицы: маленькие, совершенно небалетные движения. В «598 тактах» танцовщики на несколько секунд начинали животно, жадно друг друга обнюхивать — бросок в сторону шеи, движение будоражаще-непубличное, из мира интимных касаний. В «Буре» это были нервически потирания пальцев, крошечный жест недвижного Просперо, который распространялся на одну руку. В «Перигелии» — расползающиеся тела кордебалета, мышцы, которые отказываются служить, текут как воск. В «Танцсценах» — игривая и даже на расстоянии нарочито, почти эротичски тактильная пробежка пальцами по всей руке партнёра, среднее между раздразниванием и «рельсы, рельсы, шпалы, шпалы». Всё — способы передать чувства. Неважно, какие: желание, напряжение, растерянность. Танец как организованная система, как-то, что сочиняет автор, чтобы это исполнили артисты на большой красивой сцене, вероятно, мёртв. Но тело как средоточие ощущений, как точный проводник психических импульсов живо. Остаётся — ещё один — вопрос: доверяем ли мы этому проводнику настолько, чтобы реагировать на его предупреждения и проявления или по привычке считаем, что голове виднее.
Sextus Propertius вышел в Урал Балете в апреле 2023 года, «598 тактов» в Театре балета имени Леонида Якобсона в феврале 2024 года; итого 10 месяцев без постановок.
Балет Sextus Propertius Алексея Сысоева стал последней постановкой Самодурова для Урал Балета в статусе худрука.
За сезоны 2023/2024 и 2024/2025 Самодуров поставил следующие спектакли:
2024/2025:
Апрель 2025 — «Танцсцены», Мариинский театр;
Ноябрь 2024 — «Перигелий», в составе вечера «Место во вселенной», МАМТ;
2023/2024:
Июль 2024 — «Буря», Большой театр;
Февраль 2024 — «598 тактов», Театр балета имени Леонида Якобсона.
2024/2025:
Апрель 2025 — «Танцсцены», Мариинский театр;
Ноябрь 2024 — «Перигелий», в составе вечера «Место во вселенной», МАМТ;
2023/2024:
Июль 2024 — «Буря», Большой театр;
Февраль 2024 — «598 тактов», Театр балета имени Леонида Якобсона.
В период с 2011 по 2023 год Самодуров создал, если применять разные системы учёта, от 11 до 14 авторских премьер для труппы Урал Балета (в среднем 1-2 спектакля в сезон) и 6 постановок для других компаний, от Большого театра и Королевского балета Фландрии до Пермского балета и Балета Якобсона.
Название Урал Опера Балет появилось в 2018 году, через 7 лет после прихода Самодурова.
Из-за особенностей премьерного графика — первая половина сезона в Урал Балете традиционно отдана под оперные премьеры, балеты выходят весной-летом, причём, если новых танцевальных постановок несколько, одна часто завершает сезон, — и театральных локдаунов Слава Самодуров не выпускал постановки с октября 2018 года («Приказ короля») по февраль или июль 2021 года (вторая версия «Вариаций Сальери» или «Конёк-горбунок» совместно с Антоном Пимоновым соответственно; театр не заявлял фактически заново поставленные «Вариации» как премьеру, из-за чего счёт можно вести по-разному).
«Танцемания» изначально должна была выйти в 2020 году, но из-за локдауна премьера значительно сдвинулась до июля 2022 года; соответственно, реальный таймлайн, в котором «Танцемания» вышла после постпандемийного «Дара», можно считать концептуально искажённым — основной замысел, вероятно, относится к первоначально запланированному времени выпуска.
Часть вечера L.A.D., Урал Балет, премьера в октябре 2021 года.
Ноябрь 2022 года, Пермский театр оперы и балета.
Апрель 2023 года, Урал Балет.
С 2000 по 2003 год танцевал в Национальном балете Нидерландов, с 2003 — в британском Королевском балете.
Премьера первой постановки Самодурова для Театра балеты имени Леонида Якобсона, «Озорных частушек», состоялась на сцене Мариинского театра на Театральной площади.
«But the Symphony in C (1940) and Symphony in Three Movements (1942–45) are unique. The former, a Neoclassical work, reinterprets in Stravinsky’s language the thematic construction and sonata form of the Classical era. The result, far from a simple parody of Classical style (such as in Sergey Prokofiev’s Symphony No. 1 in D Major (1917; Classical), was an altogether fresh and revealing insight into the implications of Haydn’s work.»
Имеется в виду активные 2000-е Мариинского, когда театр выпускал значимые оригинальные и лицензионные балеты, постепенное затухание этого процесса в 2010-е, которое можно проследить, в частности, по затуханию и исчезновению специальной программы «Премьеры Мариинского театра в Москве» фестиваля «Золотая Маска», которая в последний раз прошла в 2015 году, и значительному сокращению в 2020-е числа балетных премьер как в абсолютных числах, так и по сравнению с количеством новых оперных постановок театра.
Премьера — 2013 год, Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.
Премьера — 2015 год, Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.
Премьера — 2022 год, Большой театр.
Премьера — 2023 год, Театр балета имени Леонида Якобсона.
Здесь стоит упомянуть, что музыку «Свадебки» современники Игоря Стравинского считали издевательской — композитор механизировал аутентичные напевы, что в начала XX века считывалось как похороны многовековой традиции, а Бронислава Нижинская вернула в практику «Русского балета» пуантовый танец, который некоторое время отсутствовал в спектаклях компании.
Илья Живой начал карьеру постановщика с Творческой мастерской молодых хореографов Мариинского театра, в рамках которой создал семь одноактных постановок. Также автор четырех балетов и пластических решений двух опер, идущих в том же театре.
Самодуров входит в немногочисленное поколение 50-летних хореографов, которые как артисты одинаково застали и ещё находившееся в силе советское наследие, и начало экспансии зарубежной классики XX века. Живой же относится к генерации 30-летних постановщиков, которые как артисты танцевали в Мариинском во времена лицензий и для которых язык американской неоклассики стал одной из основ воспитания.
Несмотря на относительную закрытость СССР и усложнённость полноценных культурных связей зарубежные спектакли, в частности, работы Баланчина, приезжали на гастроли в крупные города с 1950-х. Также советские артисты танцевали без подписи балеты, сочинённые, в частности, для New York City Ballet (среди них Майя Плисецкая и Александр Богатырёв, которые исполняли «В ночи» Джерома Роббинса под название «Ноктюрн»). Однако именно относительно массовое исполнение зарубежных неоклассических балетов на российских сценах началось в 1990-е годы.
«Баланчин в Мариинском» и «Фосайт в Мариинском» — условное название группы лицензионных постановок, осуществлённых в Мариинском театре в 1990-2000-е годы. Специалисты считают, что эти проекты во многом повлияли на распространённость неоклассики и воспитали многих хореографов, которые танцевали в этих спектаклях во время сценической карьеры.
Скляревская И. Баланчин в Советском союзе // Петербургский театральный журнал. 1994. №6. С. 40-43. URL: https://ptj.spb.ru/archive/6/v-peterburge-i-dalee-vezde-6/balanchin-vsovetskom-soyuze/ (дата обращения 04.07.2025).
В материале использованы фотографии Александра Неффа и Михаила Вильчука (2025 г.) © Мариинский театр