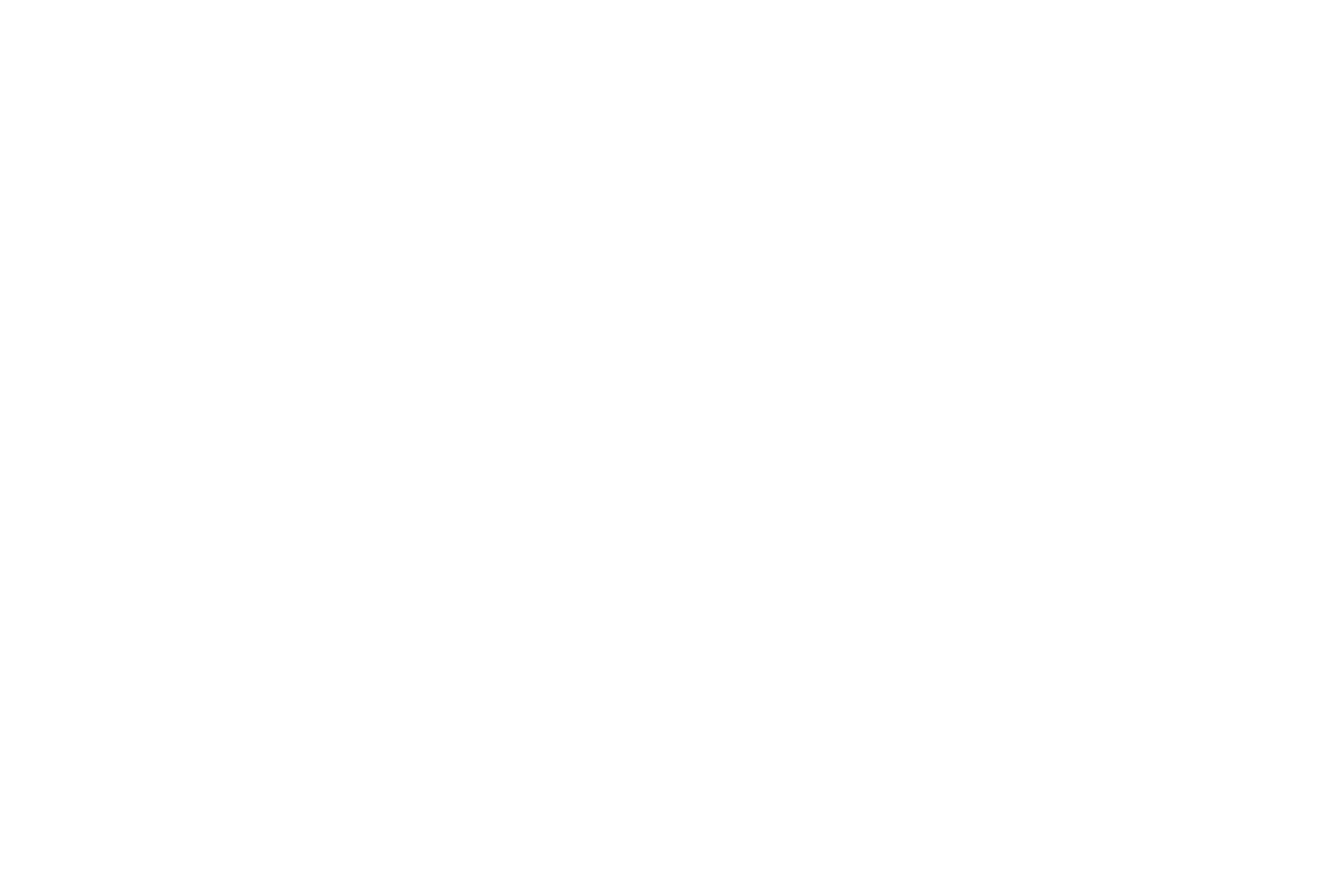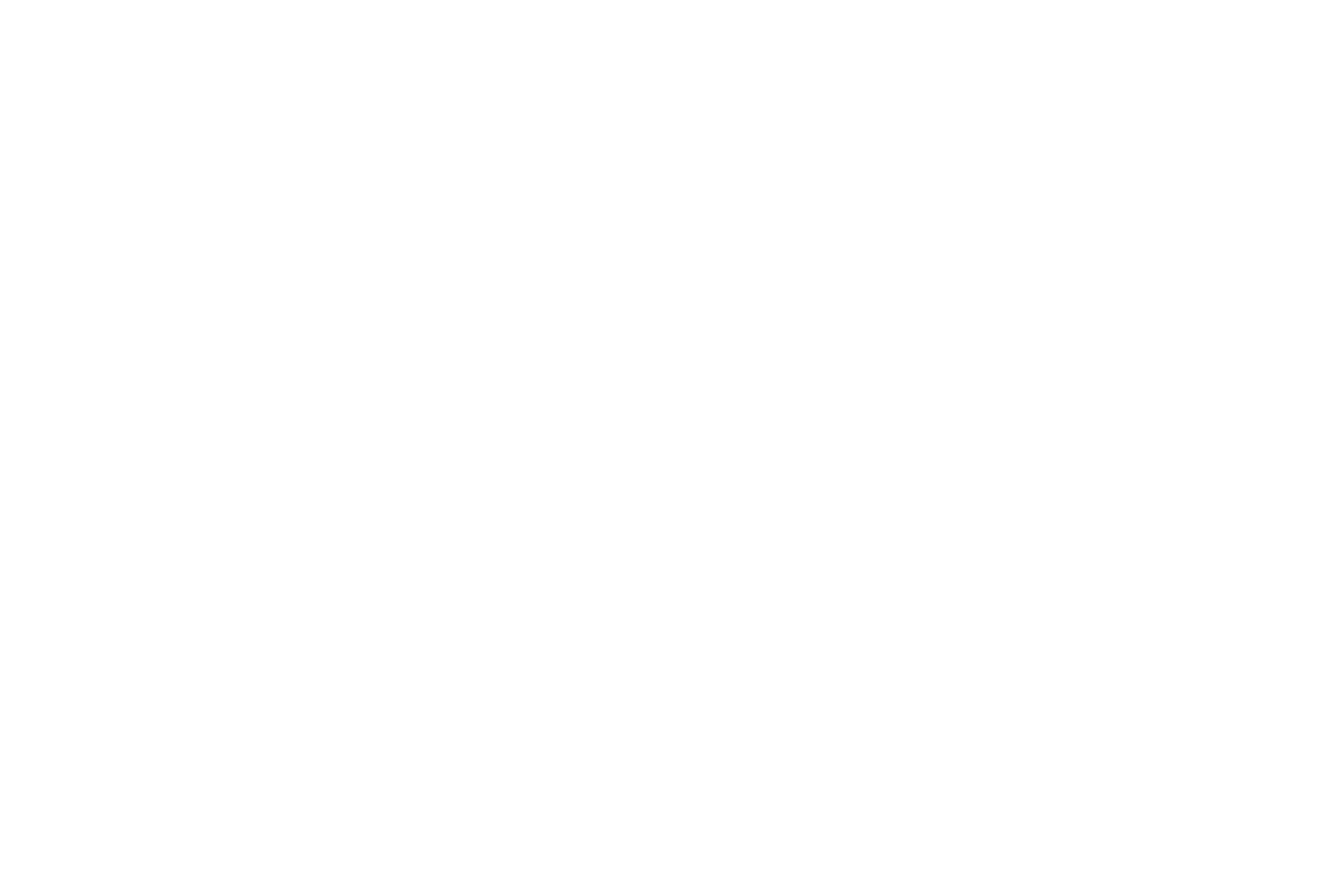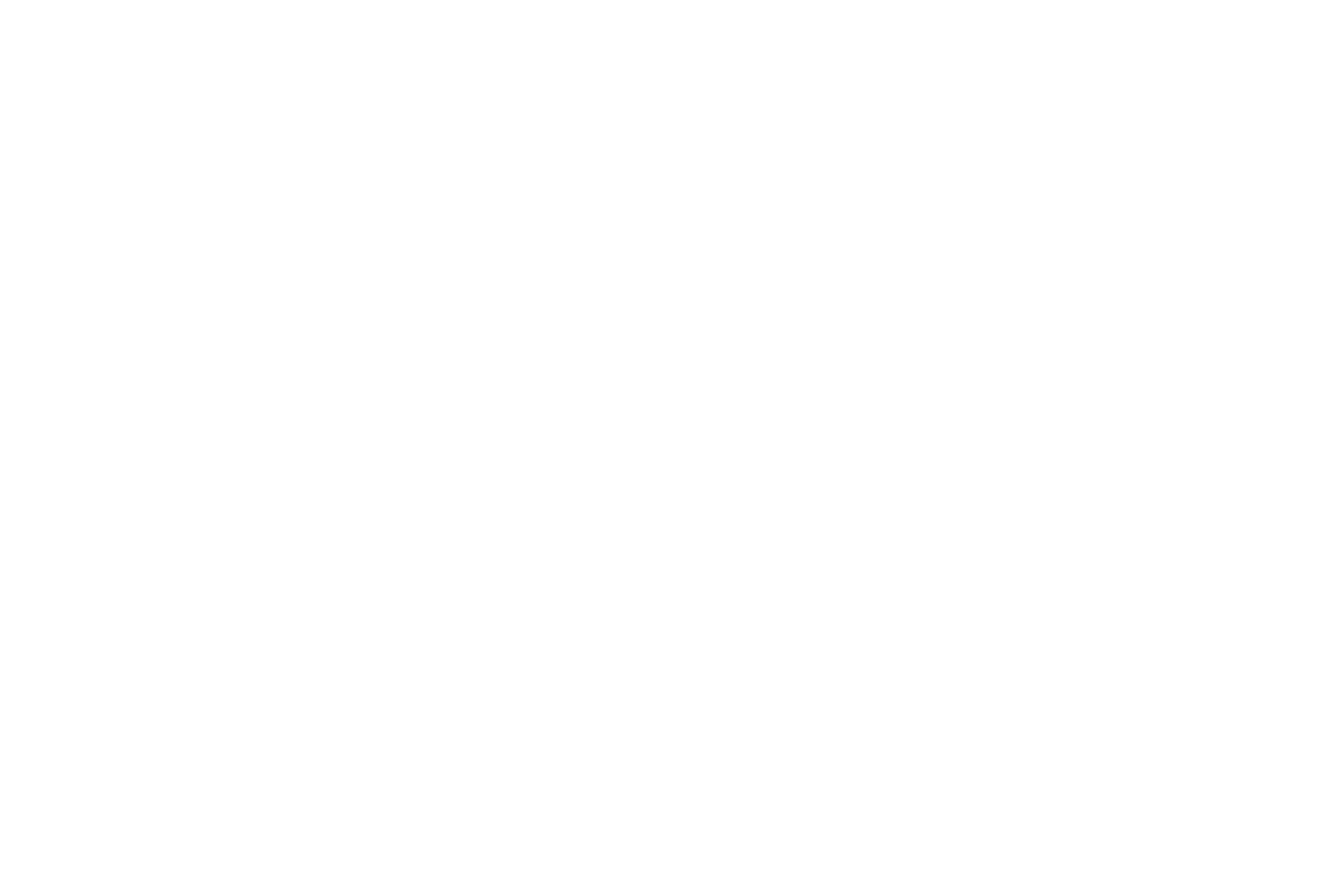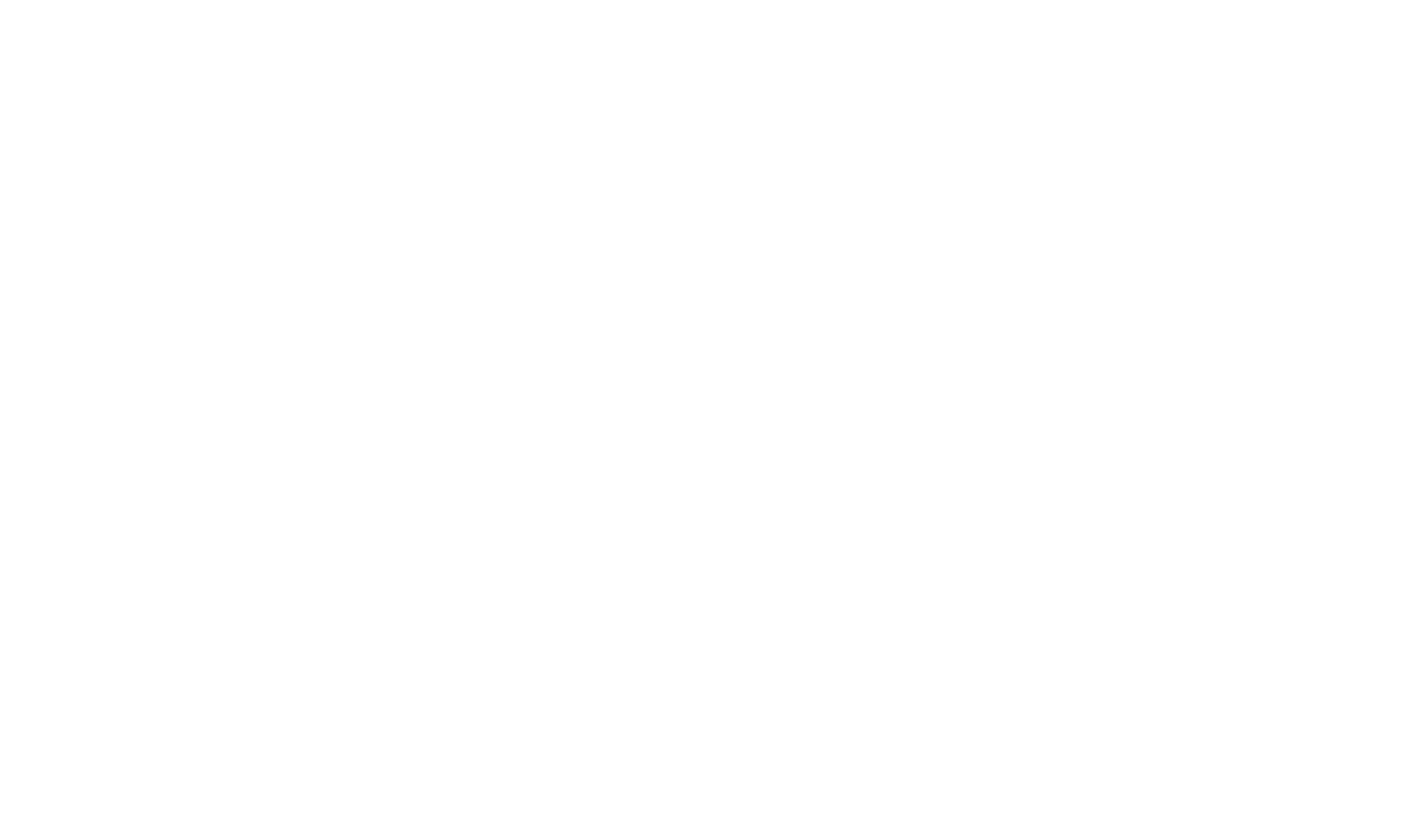I fink u freeky*
*Я думаю, ты поразительный
Хореограф Максим Петров, начавший карьеру в одном из российских балетных столпов, Мариинском театре, чуть больше, чем через 10 лет после того, как стал ставить, дебютирует в Большом. Освоение главного музыкального театра страны началось сразу с Исторической сцены и с требовательного материала,
«Конька-горбунка» Родиона Щедрина.
Тата Боева рассказывает, как спектакль отражает работу Максима Петрова с инаковостью и почему его негромкие жесты легко не заметить, особенно если подгонять увиденное под привычные театральные схемы.
«Конька-горбунка» Родиона Щедрина.
Тата Боева рассказывает, как спектакль отражает работу Максима Петрова с инаковостью и почему его негромкие жесты легко не заметить, особенно если подгонять увиденное под привычные театральные схемы.
Эту фразу Максима Петрова из разговора с критиком Анной Гордеевой перед премьерой «Конька-горбунка» в Большом редакция The Blueprint вынесла в соцсетевой тизер. Сложно было сделать выбор удачнее, найти что-то более отражающее важнейшие темы постановки. Сюжет Павла Ершова о том, как деревенский дурачок и кривенькая волшебная лошадь оказались смекалистее и смелее всех в царстве, в руках Петрова и его команды, соавтора либретто и ассистента постановщиков Богдана Королька, художницы Юлианы Лайковой, режиссёра Антона Морозова, художника по свету Константина Бинкина, не мог остаться просто сказкой. Подобранный ключ оказался простым, лежащим на поверхности — и, как многие очевидные (возможно, слишком очевидные) вещи, до того невостребованным. Что только не делали с «Коньком» на балетной сцене, но о том, что главные герои — странные для окружающих персонажи, в чём-то маргиналы и иные, хоть с маленькой, хоть с заглавной буквы, не вспоминали. Хотя обтанцовывали и то, что Иван явно выделяется как минимум среди своих обычных — нормальных — братьев, и, реже, что Конёк не похож на других лошадей (балетная традиция в кои-то веки оказалась гуманной, исключила из внешнего облика персонажа заявленную в имени физическую особенность, горб, что спасло Конька от бытия в виде характерного персонажа и comic relief). Но акцентом это не становилось.
Несмотря на деликатность, ненастойчивость формулировок, в программном интервью The Blueprint Петров обозначил, о чём будет его сотоварищи работа: не о том, как перехитрить всех, не о том, как увести у царя девушку, а о встрече двух существ, которых роднит умение мечтать, видеть мир вне пределов обычного понимания, и о том, как такие персонажи могут найти друг друга. Ещё до первого показа как главные в постановке были заявлены понятия, которые в наше время бесконечных кавычек и произносить-то слегка неловко. Дружба. Родство душ. Красота. Мечта.
Несмотря на деликатность, ненастойчивость формулировок, в программном интервью The Blueprint Петров обозначил, о чём будет его сотоварищи работа: не о том, как перехитрить всех, не о том, как увести у царя девушку, а о встрече двух существ, которых роднит умение мечтать, видеть мир вне пределов обычного понимания, и о том, как такие персонажи могут найти друг друга. Ещё до первого показа как главные в постановке были заявлены понятия, которые в наше время бесконечных кавычек и произносить-то слегка неловко. Дружба. Родство душ. Красота. Мечта.
…and i like u a lot*
В карьере Максима Петрова уже был минимум один спектакль, центром которого стало избитое до невозможности, использованное невероятным количеством людей до потери смысла, превратившееся местами в стыдное клише, да еще и часто написанное с неуместной большой буквы понятие: красота. Так хореограф начал работу в Урал Балете — в то время ещё в качестве главного балетмейстера, через полгода став худруком балета.
«Павильон Армиды», входивший в вечер «Павильон Армиды/Венгерские танцы/Sextus propertuis», торжество белого балета, практически театрализованное ежегодное дефиле Парижской оперы, в момент премьеры в первую очередь смотрелся как жест будущего руководителя в отношении коллектива. Дескать, танцевать будет что, репертуар не начнёт состоять из одноактовок на несколько человек. Также «Павильон» выглядел как отметка в жизни театра. Находившийся до прихода Славы Самодурова в весьма скромном состоянии, Урал Балет за 12 лет вырос в компанию, которая могла себе позволить выйти на сцену полным составом и исполнить строгую, требующую качественной выучки неоклассическую хореографию. Продемонстрировать, что коллективное тело театра находится в прекрасном состоянии.
«Павильон Армиды», входивший в вечер «Павильон Армиды/Венгерские танцы/Sextus propertuis», торжество белого балета, практически театрализованное ежегодное дефиле Парижской оперы, в момент премьеры в первую очередь смотрелся как жест будущего руководителя в отношении коллектива. Дескать, танцевать будет что, репертуар не начнёт состоять из одноактовок на несколько человек. Также «Павильон» выглядел как отметка в жизни театра. Находившийся до прихода Славы Самодурова в весьма скромном состоянии, Урал Балет за 12 лет вырос в компанию, которая могла себе позволить выйти на сцену полным составом и исполнить строгую, требующую качественной выучки неоклассическую хореографию. Продемонстрировать, что коллективное тело театра находится в прекрасном состоянии.
«Конёк-горбунок» не изобрёл тему в руках конкретного автора, а подсветил её. Сделал абсолютно, неигнориемо видимой.
Была в спектакле и ещё одна важная составляющая: мотив неловкости, несовпадения с ориентирами общества. До «Павильона» спектакли Петрова в основном содержали сюжет в виде, который описывал Джордж Баланчин: если на сцене есть женщина и мужчина — это уже история. «Павильон» же, выглядя бессюжетным, содержал если не историю, то тему.
Спектакль расслаивался на две части, разделённых и по устройству, и по функции, и, как выглядело в 2023 году, степени значимости. Он начинался и завершался приключениями молодого музейного смотрителя. Александр Меркушев, один из ведущих артистов труппы и её заслуженный «неправильный принц», играл парня, который сидит в углу зала где-то около картин Марка Ротко. Такой же незаметный, как полагающийся ему стул или покраска стен; не человек, а функциональное приложение к экспозиции. Но и коллекцию музея — как сейчас уже понятно, с чёткой целью, — Петров показал как вереницу, в сущности, ненужных предметов. Не буквально ненужных — закрывать музеи никто не призывал — а тех, в которых даже люди, пришедшие посмотреть на них специально, не ощущают внутренней потребности. Мимо роткообразных изображений шли и шли, почти не останавливаясь, занимаясь своими делами — кто решая вопросики по телефону, кто слушая музыку, кто не отрываясь от экрана и переписок — посетители. Около картин сидел и сидел безымянный смотритель в исполнении Меркушева, и, кажется, был единственным, кто считал, что визит в музей предполагает внимание, выключение из потока дел. А ещё он старался вступить в диалог с искусством, которое сторожил. Относился к нему не как к культурной или рабочей повинности, а как к предмету любопытства. Точкой кипения становилось появление возмущенной ревнительницы бог знает чего (хорошо, что в балете есть только жесты; во что плюются, говоря об искусстве мы, пожалуй, слышали и читали слишком много), её эмоционально громкое, хоть и физически беззвучное, возмущение абстрактной живописью — и меркушевский смотритель делал вещь бытово наивную, граничащую с безрассудством (в реальности за такое возмещают баснословный ущерб и вылетают с работы): быстро, как умел, рисовал на полосах Ротко человеческое лицо, знак, который мог бы сблизить чистый цвет на холсте с людьми. И попадал в мир балета, где пытался освоиться и где, как и в привычном музее, был чужаком — но хотя бы по объективным причинам: очутился только что.
Спектакль расслаивался на две части, разделённых и по устройству, и по функции, и, как выглядело в 2023 году, степени значимости. Он начинался и завершался приключениями молодого музейного смотрителя. Александр Меркушев, один из ведущих артистов труппы и её заслуженный «неправильный принц», играл парня, который сидит в углу зала где-то около картин Марка Ротко. Такой же незаметный, как полагающийся ему стул или покраска стен; не человек, а функциональное приложение к экспозиции. Но и коллекцию музея — как сейчас уже понятно, с чёткой целью, — Петров показал как вереницу, в сущности, ненужных предметов. Не буквально ненужных — закрывать музеи никто не призывал — а тех, в которых даже люди, пришедшие посмотреть на них специально, не ощущают внутренней потребности. Мимо роткообразных изображений шли и шли, почти не останавливаясь, занимаясь своими делами — кто решая вопросики по телефону, кто слушая музыку, кто не отрываясь от экрана и переписок — посетители. Около картин сидел и сидел безымянный смотритель в исполнении Меркушева, и, кажется, был единственным, кто считал, что визит в музей предполагает внимание, выключение из потока дел. А ещё он старался вступить в диалог с искусством, которое сторожил. Относился к нему не как к культурной или рабочей повинности, а как к предмету любопытства. Точкой кипения становилось появление возмущенной ревнительницы бог знает чего (хорошо, что в балете есть только жесты; во что плюются, говоря об искусстве мы, пожалуй, слышали и читали слишком много), её эмоционально громкое, хоть и физически беззвучное, возмущение абстрактной живописью — и меркушевский смотритель делал вещь бытово наивную, граничащую с безрассудством (в реальности за такое возмещают баснословный ущерб и вылетают с работы): быстро, как умел, рисовал на полосах Ротко человеческое лицо, знак, который мог бы сблизить чистый цвет на холсте с людьми. И попадал в мир балета, где пытался освоиться и где, как и в привычном музее, был чужаком — но хотя бы по объективным причинам: очутился только что.
В этой главе слишком много конструкций «сперва это выглядело иначе», но «Павильон Армиды» было слишком легко увидеть не таким, каким он предстаёт сейчас, из 2025 года. Постановка входила в программу, которой взаимно прощались после 12 лет работы Урал Балет и Слава Самодуров. Многие составляющие на месте смотрелись как продолжение и развитие уже существовавших тем. Александр Меркушев, сняв жилетку музейного сотрудника, казалось, становился тем самым фирменным неловким принцем, которые населяли спектакли Самодурова еще со времён первых «Вариаций Сальери» и которых он много танцевал, — и инаковость персонажа читалась, но скорее в чисто балетном контексте. Принцы у нас всегда идеальные, героем самодуровского Урал Балета стал сломанный, движущийся не как нечеловеческое существо: реплика о природе балета, а не о мире вообще. Сейчас же, наблюдая за развитием идей Максима Петрова и в Урал Балете, и в других театрах, среди которых Нижегородский балет и Большой, можно говорить, что размышлять об иных и том, что их отличает, хореограф начал уже пару лет как.
«Конёк-горбунок» не изобрёл тему в руках конкретного автора, а подсветил её. Сделал абсолютно, неигнориемо видимой. И напомнил, что Максим Петров давно делал вещь, в балете в сформулированном виде скорее не принятую: показывал с симпатией, нежностью персонажей, которых, попади они в пространство обыденной жизни, многие зрители назвали бы странными. Безо всякой нежности.
«Конёк-горбунок» не изобрёл тему в руках конкретного автора, а подсветил её. Сделал абсолютно, неигнориемо видимой. И напомнил, что Максим Петров давно делал вещь, в балете в сформулированном виде скорее не принятую: показывал с симпатией, нежностью персонажей, которых, попади они в пространство обыденной жизни, многие зрители назвали бы странными. Безо всякой нежности.
Сцена из спектакля. Кони — Дмитрий Дорохов, Иван Алексеев.
Gonna keep on dancing at the Pink Pony club*
родство душ главных героев явно непохожих на окружающих — лишь начало разговора о Других
К 2025 году можно говорить о маленькой коллекции персонажей-ауткастов, которых создал Петров, и эволюции хореографических приёмов, с помощью которых раскрываются их характеры и, что принципиальнее, миропонимание. У Ивана и Конька из премьеры Большого театра немало товарищей и предшественников. Забредший в параллельное пространство то ли морока, то ли воспоминаний растерянный, полубезвольный Юноша из «Поцелуя феи». Выпавший в мир балета музейный смотритель, который учится быть премьером, в «Павильоне Армиды». Истерзанный, застрявший в собственной голове и её лабиринтах Германн в «Пиковой даме». Непонятый трагический Синяя борода — стоит, правда, заметить, что показ его метаний проходили по тонкой этической границе между сочувствием любому человеку и оправданием насилия, — и Мальчик-с-пальчик, чьё путешествие начинается с того, что окружающие не принимают его из-за инаковости, оба из «Сказок Перро».
Герои «Конька» дополняет этот список, так сказать, генетически: мечтатель и гость из другого мира. Но главное в новом спектакле Петрова — иными оказываются почти все персонажи. Помните буквоедские напоминания «адекватное чему» и «нормальное относительно чего»? «Конёк» — балетная буквализация этого тезиса. Кто-то мечтательный. Кто-то слишком амбициозный. Кто-то царь. Кто-то начальница во дворце, которая вроде бы и подданная, но вообще как мамка правителю. Кто-то полуптица. Кто-то волшебная лошадь. Все, если присмотреться, отличаются — вопрос, от кого и как именно. Так что родство душ главных героев явно непохожих на окружающих — лишь начало разговора о Других.
Герои «Конька» дополняет этот список, так сказать, генетически: мечтатель и гость из другого мира. Но главное в новом спектакле Петрова — иными оказываются почти все персонажи. Помните буквоедские напоминания «адекватное чему» и «нормальное относительно чего»? «Конёк» — балетная буквализация этого тезиса. Кто-то мечтательный. Кто-то слишком амбициозный. Кто-то царь. Кто-то начальница во дворце, которая вроде бы и подданная, но вообще как мамка правителю. Кто-то полуптица. Кто-то волшебная лошадь. Все, если присмотреться, отличаются — вопрос, от кого и как именно. Так что родство душ главных героев явно непохожих на окружающих — лишь начало разговора о Других.
Принципиальной становится даже такая базовая вещь, как разная хореография для разных персонажей. Казалось бы, аксиома: в сюжетном балете танец создаёт образ и характеры. Для каждого действующего лица, включая группы как коллективных персонажей, должен быть свой пластический рисунок. Так устроены театральные законы, да и в жизни (если мы хотим сделать балет хотя бы чуть менее оторванным от мира, чем он есть) у людей пластика отличается — на неё влияют многие факторы, в том числе внутреннее ощущение мира и себя в нём.
Аксиома эта часто разбивается о то, что у любого хореографа так или иначе ограничен лексикон. На всех персонажей особости может не хватить. Ещё сложнее с такими авторами, как Петров, чей почерк очень быстро стал схватываемым, определяемым, узнаваемым, и долго — в силу того, что он работал в малых формах, — менялся в сторону изобретательности использования приёмов, а не расширения их набора. В «Коньке», на сегодня одной из самых больших в плане количества действующих лиц и общностей своей постановке, хореограф использовал кажущуюся однородность собственной манеры в том числе для того, чтобы, с одной стороны, стереть явно заметные различия между персонажами, и, с другой, мельчайшими штрихами обрисовать, чем именно они не похожи — все на всех.
Аксиома эта часто разбивается о то, что у любого хореографа так или иначе ограничен лексикон. На всех персонажей особости может не хватить. Ещё сложнее с такими авторами, как Петров, чей почерк очень быстро стал схватываемым, определяемым, узнаваемым, и долго — в силу того, что он работал в малых формах, — менялся в сторону изобретательности использования приёмов, а не расширения их набора. В «Коньке», на сегодня одной из самых больших в плане количества действующих лиц и общностей своей постановке, хореограф использовал кажущуюся однородность собственной манеры в том числе для того, чтобы, с одной стороны, стереть явно заметные различия между персонажами, и, с другой, мельчайшими штрихами обрисовать, чем именно они не похожи — все на всех.
Как узнать балет Максима Петрова с любого расстояния, по фрагменту любого хронометража и в исполнении любой труппы? Все тела артистов не позже, чем через минуту, прочерчивают диагональ, а не позже, чем через две образуют узкий, вытянутый в длину крест. Перестроения и композиции изощрённые, делаются на весьма приличной скорости. Движения, наоборот, на глаз нарочито просты. Неэффектны.
Безусловно, этим постановки Петрова не исчерпываются. Будь так, пожалуй, он не прошёл бы чуть больше, чем за 10 лет, путь от ещё одного участника Творческих мастерских молодых хореографов Мариинского театра (впрочем, «ещё одним» хореограф не был; вспомним быстро кристаллизовавшуюся манеру и подход к танцу) до самого интересного на сегодня российского автора-неоклассика поколения 30-летних. Как у любого хорошего автора, у Петрова есть подписные движения. До поры из них состояли небольшие работы, которые реально построить на нескольких ключевых па и за счёт вариативности заполнить хронометраж.
В «Коньке», по идее, подобное не сработало бы — ни в силу продолжительности, ни в силу обилия персонажей. Казалось бы, самое время искать любые способы придумать новые движения. Петров же отправился в контринтуитивном направлении: сделал существующую, безупречно работавшую в абстракциях и на первый взгляд созданную преимущественно для них, лексическую базу сложнее. Как будто уже существующий инструмент заново заточили — и продемонстрировали, что теперь он может больше.
Герои «Конька» во многом танцуют как герои «Поцелуя феи», «Пиковой дамы», «Сказок Перро» etc. Некоторые даже танцуют нарочито похоже друг на друга — как Иван и Конёк. Кому-то выдано больше гравитации, как зловредным коням, топчущим пшеницу. Кому-то — больше зависаний в воздухе, как Ивану и Коньку. Кто-то, как Иван, благодаря околопластическому средству, мягкому, похожему на свободную пижаму с шароварами, — грамотная конструкторская работа по выбору фасона, ткани, длины и посадки под руководством художницы Юлианы Лайковой, которая не сделала уж совсем тюфячка из танцевавшего в первом составе Владислава Лантратова, но явно смазала контур фигуры Игоря Цвирко из второго состава, — выглядит, несмотря на чистые диагональные линии и аккуратные безусильные прыжки, будто чуть расплывающимся. Кто-то, как Царь-девица, доминирует, тыкая во всех властной ножкой с пикой-пуантом, а кто-то, как Царица дна, властвует манящими руками. Чьи-то прыжки дают воспарить, буквально подняться над обыденностью. Кто-то, как Спальник, так показывает свое влияние, взмывает над головами «людишек». Рисуя при этом привычные по работам Максима Петрова диагонали и вертикальные кресты.
Непринципиальные различия при «общем выражении лица» — так выглядит разработка неудачной (если не сказать халтурной) сюжетной постановки, если принимать за точку отсчёта систему мышления драматического балета. Персонажи должны быть непохожи. Чтобы отличали даже невнимательные неофиты с последнего ряда пятого яруса. Их характеры должны быть выпуклыми, а пластический рисунок таким, чтобы было возможно сказать: злодеи кружились, хорошие парни прыгали, красны девицы плыли как лебеди.
В «Коньке», по идее, подобное не сработало бы — ни в силу продолжительности, ни в силу обилия персонажей. Казалось бы, самое время искать любые способы придумать новые движения. Петров же отправился в контринтуитивном направлении: сделал существующую, безупречно работавшую в абстракциях и на первый взгляд созданную преимущественно для них, лексическую базу сложнее. Как будто уже существующий инструмент заново заточили — и продемонстрировали, что теперь он может больше.
Герои «Конька» во многом танцуют как герои «Поцелуя феи», «Пиковой дамы», «Сказок Перро» etc. Некоторые даже танцуют нарочито похоже друг на друга — как Иван и Конёк. Кому-то выдано больше гравитации, как зловредным коням, топчущим пшеницу. Кому-то — больше зависаний в воздухе, как Ивану и Коньку. Кто-то, как Иван, благодаря околопластическому средству, мягкому, похожему на свободную пижаму с шароварами, — грамотная конструкторская работа по выбору фасона, ткани, длины и посадки под руководством художницы Юлианы Лайковой, которая не сделала уж совсем тюфячка из танцевавшего в первом составе Владислава Лантратова, но явно смазала контур фигуры Игоря Цвирко из второго состава, — выглядит, несмотря на чистые диагональные линии и аккуратные безусильные прыжки, будто чуть расплывающимся. Кто-то, как Царь-девица, доминирует, тыкая во всех властной ножкой с пикой-пуантом, а кто-то, как Царица дна, властвует манящими руками. Чьи-то прыжки дают воспарить, буквально подняться над обыденностью. Кто-то, как Спальник, так показывает свое влияние, взмывает над головами «людишек». Рисуя при этом привычные по работам Максима Петрова диагонали и вертикальные кресты.
Непринципиальные различия при «общем выражении лица» — так выглядит разработка неудачной (если не сказать халтурной) сюжетной постановки, если принимать за точку отсчёта систему мышления драматического балета. Персонажи должны быть непохожи. Чтобы отличали даже невнимательные неофиты с последнего ряда пятого яруса. Их характеры должны быть выпуклыми, а пластический рисунок таким, чтобы было возможно сказать: злодеи кружились, хорошие парни прыгали, красны девицы плыли как лебеди.
«Конёк-горбунок» Петрова, в целом как театральная сущность и в частности решение персонажей в этой версии, задаёт вопрос: а что, если нарративный балет не приравнивать к драматическому? Не встраиваться в его систему пластических ценностей. Мы же знаем больше одного направления в пуантовом танце. Почему бы не пойти другим путём. Например, поставить полнометражную сюжетную вещь как неоклассическую бессюжетную миниатюру.
Все герои «Конька» отличаются друг от друга — в той системе координат, где зрители обращают внимание на небольшие детали, готовы инвестировать в них своё внимание и время просмотра. Такой взгляд ловит, что движения Ивана быстрее и легче, чем у его братьев. Что он как будто обретается на краешке зоны действия притяжения, зависает в воздухе. Что Конёк, при всей схожести с Иваном, больше, чем он, тянется ведущей рукой вверх и вперёд, будто его куда-то тянет невидимым магнитом, догоняет всем телом кисть. Что прыжки коней, в противоположность Горбунку, тяжёлые, силовые, приземляются они, зримо используя вес всего тела. Так собирается мир существ, где все, будучи генерально из одного теста (равно гуманный взгляд, отказывающийся выделять плохих и хороших, второстепенных и первозначных) не похожи на всех, — и лишь коллективные герои вроде жар-птиц, царских мамок или сирен, не отличаются друг от друга.
Однако же в программном интервью Максим Петров особо подчёркивал, что премьера — об инаковости именно Ивана и Конька. Как показать отличие там, где все вообще-то особенные? Напоминание: спектакль поставил хореограф-неоклассик, который видит сцену как пространство знаков и до мельчайших деталей продумывает композицию. Так Петров дополнительно подсветил основных героев — и рассказал историю о дружбе существ, которые отличаются от окружающих не характерами, не положением в обществе, не устремлениями, а взглядом на мир.
Однако же в программном интервью Максим Петров особо подчёркивал, что премьера — об инаковости именно Ивана и Конька. Как показать отличие там, где все вообще-то особенные? Напоминание: спектакль поставил хореограф-неоклассик, который видит сцену как пространство знаков и до мельчайших деталей продумывает композицию. Так Петров дополнительно подсветил основных героев — и рассказал историю о дружбе существ, которые отличаются от окружающих не характерами, не положением в обществе, не устремлениями, а взглядом на мир.
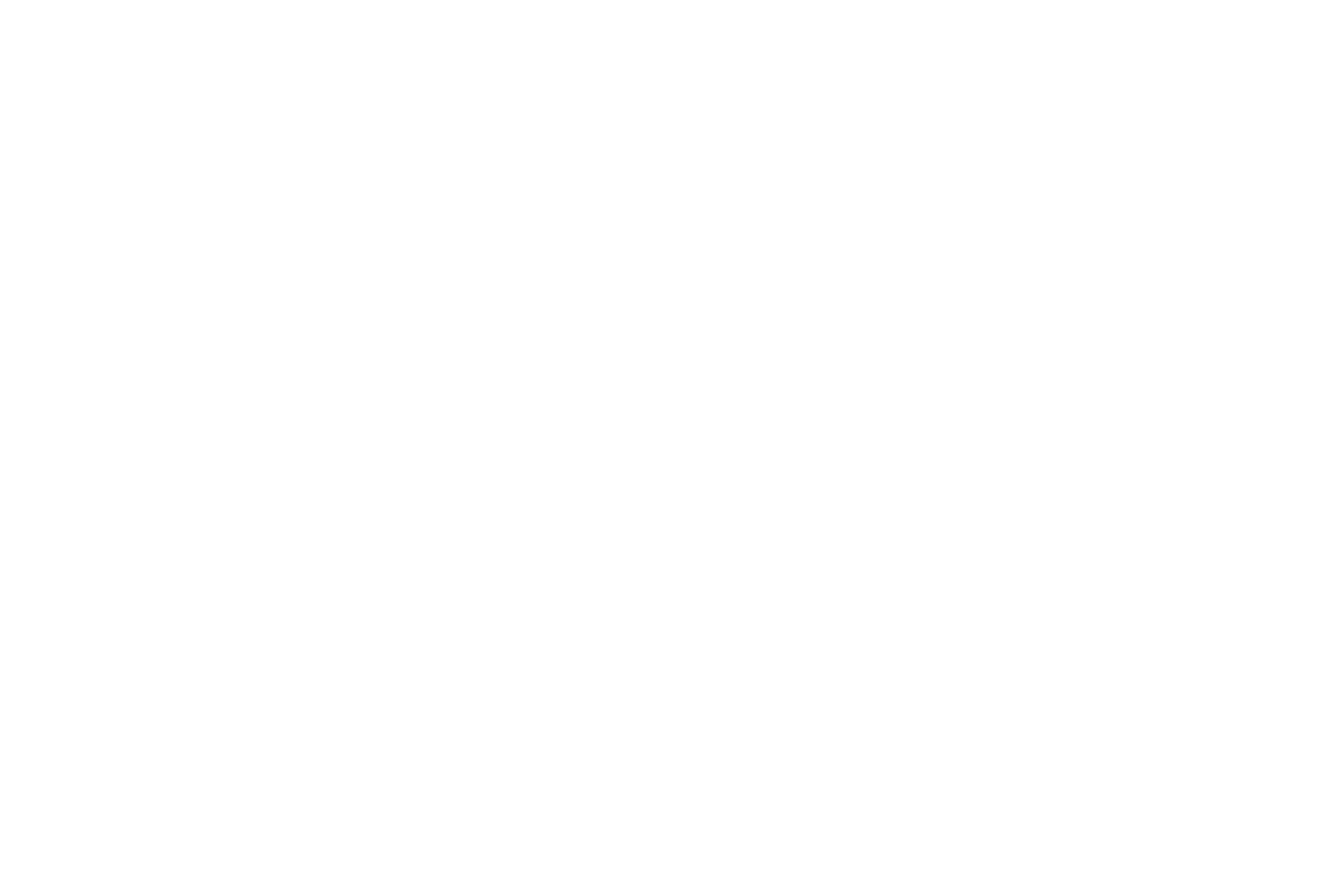
Иван — Владислав Лантратов, Конёк-горбунок — Георгий Гусев.
ещё одна значимая цитата Петрова об идее спектакля.
выдержка уже из либретто. Оба высказывания более-менее целиком описывают, что акцентирует команда постановки: разговор и об инаковости, и о том, что сводит разных людей (тут и вовсе существ из разных миров) вместе. И заодно спойлерят ключевое решение: как будут танцевать друзья по добыванию девушек для царей (в других интерпретациях) и мечтаниям (версия Большого).
Если не брать коллективных действующих лиц вроде коней, сирен, жар-птиц, людей на ярмарке и мамок во дворце, Иван и Конёк — единственные персонажи, чья пластика почти до неразличимости похожа. До первой встречи у каждого есть свой рисунок. Однако ещё до официального знакомства всего лишь наблюдающий, примеривающийся к новому миру Конёк видит Ивана — и начинает, сперва неточно и несмело, повторять его движения. В реальном мире у такого, часто инстинктивного, поведения есть объяснение: люди зеркалят жесты тех, кому хотят быть симпатичными. Конёк, даром, что с (поп-)психологией не сталкивался и вообще инопланетная лошадь, примеряет на себя пластику человека, которого видит как похожего на себя внутренне, и с которым хотел бы сойтись. Тело заявляется как осязаемый эквивалент души — а аналогичные жесты как признак близости отношения к миру.
Чем больше знакомятся Иван и Конёк, тем больше похожи их движения. Апофеозом становятся два дуэта согласия, которые структурно возникают в местах, где обычно требуется разнополое па-де-де. Только в постановке Петрова вместо любви романтической — внезапная и яркая дружба. Состояние, когда два человека обнаруживают друг друга в мире и понимают, что не одиноки. Дуэты эти, каскады синхронных па с ключевым мотивом устремлённости вверх и вперёд, в видимые только друзьям дали, происходят под нарочито неловкими, будто детскими руками нарисованными серебряными звездами. Так художница Юлиана Лайкова, которая превратила «Конька» в театр масштабированного символического объекта, подчёркнула разницу между реальной, но скучной, без искры воображения, деревней (нарочито простая, без декора и фактуры, будто наскоро собранная из фанеры, изба), выходящей за границы обыденного природой, доступной красотой (тщательно выделанная, будто живая трава поля, позже вытоптанная конями) и высоким небом, пространством неведомой мечты, которое сложно вообразить в его буквальной форме и которое дорисовывается фантазией как выходит (те самые как-бы-кустарные звёзды). До появления Конька блестящая мягкая трава была объектом созерцания Ивана, который, кажется, один мог видеть мир вокруг — по-своему волшебным, прекрасным, притягивающим заинтересованный взгляд. А мечта часто не имеет конкретного контура, мерцает в сознании, принимает форму в зависимости от настроения и состояния человека — и Иван и Конёк неоспоримо тянутся к своим звёздам, но видят их условными. Важно стремление.
И похожесть главных героев, и их отличие от остальных персонажей Петров решает через телесные характеристики — во многих случаях буквально. Иван и братья танцуют похоже. Но Иван будто лишён физического веса, приземляется безусильно, технически наследуя датской школе, которая развилась в эпоху романтизма и переносила на сцену сказочных существ, а то время как на его братьев действует вполне реалистичная гравитация, как на героев советских драмбалетов. И Иван, и Конёк вытянуты вверх — но у Конька будто бы есть магнитная тяга в пальцах ведущей руки, из-за чего всё его тело визуально «летит» ещё сильнее. Топчущие поле кони, как и братья Ивана, явно приземляются всем телом, похожие на всё тех же советских атлетических танцовщиков. Конюший-Стольник вроде бы такой же, если не больше, прыгучий, как Иван и Конёк — но его движения скорее упруги, чем легки. Его подкидывает вверх амбициозность. Он буквально выпрыгивает из своего окружения, чтобы быть видным, выделиться.
Из таких мелких, деталей складывается хореографическое повествование в «Коньке» — и рефлексия об инаковости. Подписные жесты, чаще всего встречающиеся в балетах Петрова, которые всегда красиво вытягивали фигуры исполнителей вверх, напоминая, что основная физическая категория балета — вертикаль, ось, которая проходит от земли через макушку к небу, превращая артистов символически в неземных существ (в то время как на танцовщиков контемпорари данс, обращённого к повседневному опыту, принципиально действует гравитация, а многие техники задействуют работу с весом и работу в партере), в «Коньке» стали знаком мечтания. Балет же — пространство надчеловеческого, буквально воспаряющего? Почему бы это не трактовать как мечту, стремление за пределы обыденного?
В своих спектаклях Петров давно работает с категорией ультимативной красоты, красоты как пространства гармонии, красоты как идеи лучшего, справедливого, гуманного мира. Раньше это выражалось преимущественно в форме постановок;
Если не брать коллективных действующих лиц вроде коней, сирен, жар-птиц, людей на ярмарке и мамок во дворце, Иван и Конёк — единственные персонажи, чья пластика почти до неразличимости похожа. До первой встречи у каждого есть свой рисунок. Однако ещё до официального знакомства всего лишь наблюдающий, примеривающийся к новому миру Конёк видит Ивана — и начинает, сперва неточно и несмело, повторять его движения. В реальном мире у такого, часто инстинктивного, поведения есть объяснение: люди зеркалят жесты тех, кому хотят быть симпатичными. Конёк, даром, что с (поп-)психологией не сталкивался и вообще инопланетная лошадь, примеряет на себя пластику человека, которого видит как похожего на себя внутренне, и с которым хотел бы сойтись. Тело заявляется как осязаемый эквивалент души — а аналогичные жесты как признак близости отношения к миру.
Чем больше знакомятся Иван и Конёк, тем больше похожи их движения. Апофеозом становятся два дуэта согласия, которые структурно возникают в местах, где обычно требуется разнополое па-де-де. Только в постановке Петрова вместо любви романтической — внезапная и яркая дружба. Состояние, когда два человека обнаруживают друг друга в мире и понимают, что не одиноки. Дуэты эти, каскады синхронных па с ключевым мотивом устремлённости вверх и вперёд, в видимые только друзьям дали, происходят под нарочито неловкими, будто детскими руками нарисованными серебряными звездами. Так художница Юлиана Лайкова, которая превратила «Конька» в театр масштабированного символического объекта, подчёркнула разницу между реальной, но скучной, без искры воображения, деревней (нарочито простая, без декора и фактуры, будто наскоро собранная из фанеры, изба), выходящей за границы обыденного природой, доступной красотой (тщательно выделанная, будто живая трава поля, позже вытоптанная конями) и высоким небом, пространством неведомой мечты, которое сложно вообразить в его буквальной форме и которое дорисовывается фантазией как выходит (те самые как-бы-кустарные звёзды). До появления Конька блестящая мягкая трава была объектом созерцания Ивана, который, кажется, один мог видеть мир вокруг — по-своему волшебным, прекрасным, притягивающим заинтересованный взгляд. А мечта часто не имеет конкретного контура, мерцает в сознании, принимает форму в зависимости от настроения и состояния человека — и Иван и Конёк неоспоримо тянутся к своим звёздам, но видят их условными. Важно стремление.
И похожесть главных героев, и их отличие от остальных персонажей Петров решает через телесные характеристики — во многих случаях буквально. Иван и братья танцуют похоже. Но Иван будто лишён физического веса, приземляется безусильно, технически наследуя датской школе, которая развилась в эпоху романтизма и переносила на сцену сказочных существ, а то время как на его братьев действует вполне реалистичная гравитация, как на героев советских драмбалетов. И Иван, и Конёк вытянуты вверх — но у Конька будто бы есть магнитная тяга в пальцах ведущей руки, из-за чего всё его тело визуально «летит» ещё сильнее. Топчущие поле кони, как и братья Ивана, явно приземляются всем телом, похожие на всё тех же советских атлетических танцовщиков. Конюший-Стольник вроде бы такой же, если не больше, прыгучий, как Иван и Конёк — но его движения скорее упруги, чем легки. Его подкидывает вверх амбициозность. Он буквально выпрыгивает из своего окружения, чтобы быть видным, выделиться.
Из таких мелких, деталей складывается хореографическое повествование в «Коньке» — и рефлексия об инаковости. Подписные жесты, чаще всего встречающиеся в балетах Петрова, которые всегда красиво вытягивали фигуры исполнителей вверх, напоминая, что основная физическая категория балета — вертикаль, ось, которая проходит от земли через макушку к небу, превращая артистов символически в неземных существ (в то время как на танцовщиков контемпорари данс, обращённого к повседневному опыту, принципиально действует гравитация, а многие техники задействуют работу с весом и работу в партере), в «Коньке» стали знаком мечтания. Балет же — пространство надчеловеческого, буквально воспаряющего? Почему бы это не трактовать как мечту, стремление за пределы обыденного?
В своих спектаклях Петров давно работает с категорией ультимативной красоты, красоты как пространства гармонии, красоты как идеи лучшего, справедливого, гуманного мира. Раньше это выражалось преимущественно в форме постановок;
«Конёк», пожалуй, первая его работа, где рефлексия о красоте как мечте — основа сюжета. Иван и Конёк становятся проводниками в мир сказки потому, что они видят окружающий мир гармоничным, достойным любви. Красивым в любых проявлениях.
Чувство тишины
Но главное размышление на заданную в «Коньке-горбунке» тему отличия и мечты заключается не в том, какими показаны персонажи, как трансформирован сюжет и чем герои похожи или нет. «Конёк-горбунок» весь, на уровне авторского метода, иной балет.
У пуантового танца, безусловно, много разновидностей — и полноценных стилей, и ответвлений, и миксов, и модификаций. Но есть характеристики, которые преимущественно сохраняются столетиями. Конвенциональный балет — искусство эффектности и предельных телесных возможностей. Искусство, которое диктует зрителям, когда и на кого смотреть, кто сейчас самый важный на сцене, часто властно расставляет акценты и выстраивает иерархии. Громкое искусство.
У пуантового танца, безусловно, много разновидностей — и полноценных стилей, и ответвлений, и миксов, и модификаций. Но есть характеристики, которые преимущественно сохраняются столетиями. Конвенциональный балет — искусство эффектности и предельных телесных возможностей. Искусство, которое диктует зрителям, когда и на кого смотреть, кто сейчас самый важный на сцене, часто властно расставляет акценты и выстраивает иерархии. Громкое искусство.
Максим Петров ставит тихие балеты.
Неманифестивные постановки, которые предлагают воспринять интенцию, но не требуют присвоить её себе.
Как узнать любой балет Максима Петрова? Тела артистов не позже, чем через минуту, прочерчивают диагональ, а не позже, чем через две образуют узкий, вытянутый в длину крест. Перестроения и композиции изощрённые. Движения, наоборот, нарочито неэффектны.
Максим Петров ставит тихие балеты.
Их можно назвать антибалетами. Но такое утверждение, пожалуй, слишком пригвождающее, навязывающее оптику. По-хорошему, ни этого, ни любого другого текста с комментариями не должно существовать. Потому что термин — это громко. Микро-, но власть над аудиторией. Навязывание своей звучности. Вместо поиска терминов нам стоило бы сесть вместе и смотреть балеты, ловить, что передаёт их устройство. Но иногда приходится идти вразрез с установками креатора, чтобы проанализировать его работу.
Максим Петров ставит тихие балеты.
Их можно назвать антибалетами. Но такое утверждение, пожалуй, слишком пригвождающее, навязывающее оптику. По-хорошему, ни этого, ни любого другого текста с комментариями не должно существовать. Потому что термин — это громко. Микро-, но власть над аудиторией. Навязывание своей звучности. Вместо поиска терминов нам стоило бы сесть вместе и смотреть балеты, ловить, что передаёт их устройство. Но иногда приходится идти вразрез с установками креатора, чтобы проанализировать его работу.
Итак, тихие балеты. Неманифестивные постановки, которые предлагают воспринять интенцию, но не требуют присвоить её себе. Безусловно, в CV хореографа накопились разные работы, в том числе энергичные, хулиганские, демонстративно нарушающие правила — по меркам его манеры. Например, «Байке/Мавре/Поцелую феи» можно выписывать штраф за наезд на балетные конвенции. «Коньку-горбунку», как выяснилось из озвученной реакции на него, тоже. Но основная часть работ Петрова, что существуют на сегодня, очень мягко сдвигают границы балетных конвенций.
Важно заметить, что балет, каким его видит и создаёт Максим Петров и его команда (общая работа, союзничество, равно ценный вклад всех, явленные в «Сказках Перро», первом собственном проекте хореографа в Урал Балете, здесь принципиальная часть ценностного базиса) тих не потому, что не получается громче.
Тишина, лаконичность, неэффектность нужны как категории, которые помогают остановиться или замедлиться — забавно, что при этом хореография Петрова очень часто включает высокую скорость и активное движение, — и посмотреть. Например, на балет. Подумать, что он такое, что мы привыкли считать балетом. Что ожидаем от спектаклей. Что произойдёт, если какого-то компонента не будет.
Созерцание становится способом постижения. Об этом он минимум однажды и сам говорил публично, характеризуя «Фортепианный концерт»:
Важно заметить, что балет, каким его видит и создаёт Максим Петров и его команда (общая работа, союзничество, равно ценный вклад всех, явленные в «Сказках Перро», первом собственном проекте хореографа в Урал Балете, здесь принципиальная часть ценностного базиса) тих не потому, что не получается громче.
Тишина, лаконичность, неэффектность нужны как категории, которые помогают остановиться или замедлиться — забавно, что при этом хореография Петрова очень часто включает высокую скорость и активное движение, — и посмотреть. Например, на балет. Подумать, что он такое, что мы привыкли считать балетом. Что ожидаем от спектаклей. Что произойдёт, если какого-то компонента не будет.
Созерцание становится способом постижения. Об этом он минимум однажды и сам говорил публично, характеризуя «Фортепианный концерт»:
Смотреть на узоры на сцене предлагал примерно весь балет XIX века. Но делал он это с помпонами и фейерверками. Медитативное наблюдение за движением запаковывалось в огромную праздничную обёртку для тех, кому постановка неинтересна; в театр в принципе многие ездили как в клуб для общения. Позже шуршащую фольгу декораций, костюмов и нетанцующей толпы снимали неоклассики. Но в наших краях собственные, за редким исключением, долго не водились, а миниатюры зрительскую привычку не формировали. Когда же Баланчины, Роббинсы и прочие Форсайты стали полноправной частью уже новейшей российской, постсоветской сцены, концептуальное расстояние до них было примерно как до Петипа: великое или хотя бы титулованное. Действующего в реальном времени инструментария они не требовали. А именно он нужен для работы с современными неоклассическими спектаклями — у которых нет места в учебнике и с качеством надо разбираться на месте.
Одноактные балеты Петрова со времён Творческой мастерской молодых хореографов середины 2000-х при понятности устройства могли ставить перед аудиторией непривычную задачу: следить за рисунком на сцене не впроброс, а с пристальным вниманием, составлять собственную воображаемую карту, как двигалась рука или менял положение корпус. Кроме того, они тяжелы в критической работе. Ярких, бишь легко описываемых черт не так много, они повторяются из постановки в постановку, остальное же — детали. Помните «почему артисты идут с этой ноги или с другой ноги»? Наблюдать за этим отлично — если ценишь форму и не ждёшь, например, драмбалетную телесную экспрессию. Разбирать — временами мука, особенно в небольшом тексте. «Рука была на высоте стольки-то сантиметров», «нога ушла назад так-то», «голова опустилась так-то» — и означает это, как любой узор, ничего. И не должно. «Для меня важна работа со скоростью, резкостью, мягкостью движения. Как будут исполнять хореографию, а не изображать её».
Одноактные балеты Петрова со времён Творческой мастерской молодых хореографов середины 2000-х при понятности устройства могли ставить перед аудиторией непривычную задачу: следить за рисунком на сцене не впроброс, а с пристальным вниманием, составлять собственную воображаемую карту, как двигалась рука или менял положение корпус. Кроме того, они тяжелы в критической работе. Ярких, бишь легко описываемых черт не так много, они повторяются из постановки в постановку, остальное же — детали. Помните «почему артисты идут с этой ноги или с другой ноги»? Наблюдать за этим отлично — если ценишь форму и не ждёшь, например, драмбалетную телесную экспрессию. Разбирать — временами мука, особенно в небольшом тексте. «Рука была на высоте стольки-то сантиметров», «нога ушла назад так-то», «голова опустилась так-то» — и означает это, как любой узор, ничего. И не должно. «Для меня важна работа со скоростью, резкостью, мягкостью движения. Как будут исполнять хореографию, а не изображать её».
Думается, это во многом обуславливает недоуменную, а временами и агрессивную реакцию на работы Максима Петрова. Российский театр в целом устроен как пространство, где приняты большие, яростные, на разрыв аорты жесты высокой значимости, а большинство креаторов более или менее доминантно сажают в голову аудитории какую-либо мысль. Людей, которые, сообщая мысль, не рвут на себе рубашки и предлагают более мягкую коммуникацию, свободную от гайдлайнов и обязательных точек внимания, часто и зрители, и профессиональное сообщество воспринимают либо как неумелых, либо как ещё более властных.
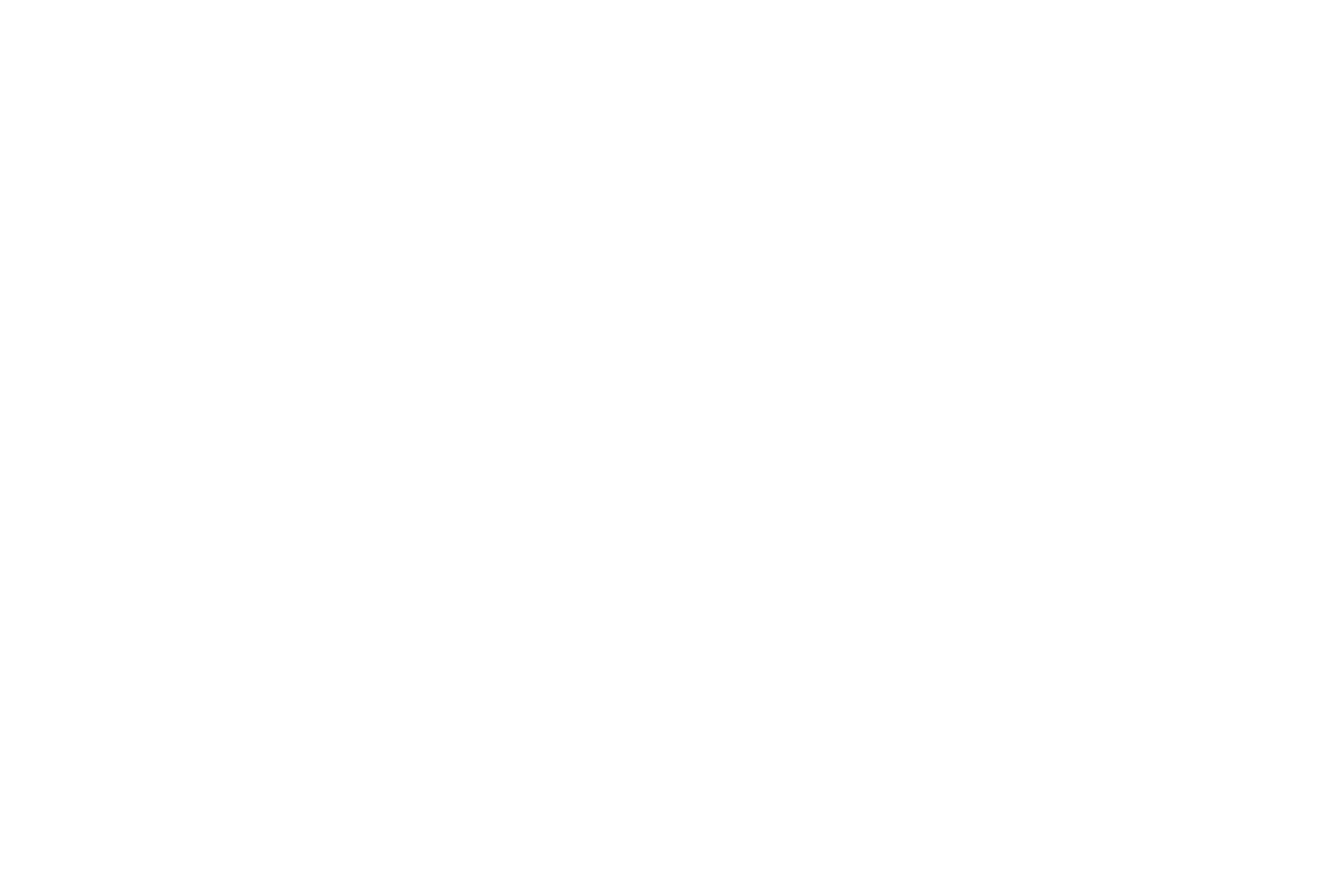
Сцена из спектакля. Царская охрана (крайний слева и крайний справа) — Виталий Гетманов, Андрей Кошкин. В центре: Царь — Вячеслав Лопатин. Ключница — Анастасия Меськова.
Спектакли Петрова мультицентричны. Бессюжетные напоминают абстрактную живопись, которую можно рассматривать целиком или в любом порядке по частям. Нарративные содержат много пластов действия, между которыми также можно выбирать. И, вне зависимости от типа, его работы недекларативны, предлагают посмотреть на небольшие детали, соединить их самостоятельно. Понаблюдать. Это театр высокой степени доверия к публике — к чему многие, выросшие на работах auteur’ов, должно быть, относятся с подозрением: никак 25-й кадр. Не может быть, чтобы ничего не втюхивали и не рассказывали, как думать.
К тому же танец в постановках Петрова смотрится обманчиво нетребовательным (бывает), непритязающим (где-то маячит лишение партбилета хореографа). Тонкие чёткие линии, безусильное приземление из высоких прыжков, будто-бы-игривые повороты. Не-виртуозно, не-навороченно, без вёдер пота — хотя, чтобы хорошо исполнить все эти чуть вверх, чуть вниз, чуть в сторону, нужны дисциплина, точность, сосредоточенность. Но выглядит это простым (кому-то простеньким, кому-то минималистичным: вопрос терминологии, оценки, отношения) — а простота в российской культуре не самая большая ценность.
К тому же танец в постановках Петрова смотрится обманчиво нетребовательным (бывает), непритязающим (где-то маячит лишение партбилета хореографа). Тонкие чёткие линии, безусильное приземление из высоких прыжков, будто-бы-игривые повороты. Не-виртуозно, не-навороченно, без вёдер пота — хотя, чтобы хорошо исполнить все эти чуть вверх, чуть вниз, чуть в сторону, нужны дисциплина, точность, сосредоточенность. Но выглядит это простым (кому-то простеньким, кому-то минималистичным: вопрос терминологии, оценки, отношения) — а простота в российской культуре не самая большая ценность.
В новейшей истории российского театра уже был минимум один подобный кейс. Команда, которая готовила проекты горизонтально, отмечала это как ценность, и выпускала негромкие и при этом сделанные будто бы против всех правил спектакли. Постановки считали то плохо сделанными, то скандальными, то чуть не камерой пыток. С одной разницей – всё происходило на территории драматического театра, казалось бы (лишь казалось), гораздо менее консервативного и более открытого, чем балет.
Петербургский театр post, именем которого будет правильно назвать сразу всех участников от артистов, которые стабильно участвовали в проектах, до менеджеров и идейных драйверов, пожалуй, с момента появления в 2011 году стал притчей во языцех минимум для части аудитории. Если почитать особенно яростную прессу и отзывы, можно подумать, что post каждый показ начинал с ритуального сожжения полного собрания сочинений Станиславского, где-то в середине рвали зубами сборник пьес Чехова, а в финале выкапывали Щепкина и Ермолову и глумились над тем, что от них осталось. Ничего, конечно, подобного не происходило. Были — публично деликатнейший Дмитрий Волкострелов, который мог выйти и мягко попросить выключить звук телефонов или объяснить, какие действия могут предпринять зрители (но могут и не предпринимать, если не хотят), буквально тихие, неторопливые спектакли об обычно максимально простых, повседневных вещах, которыми команда ненавязчиво любовалась: бытовые разговоры, ежедневные действия, привычные ритуалы. В постановках post, чьими героями становились люди, которых легко встретить на улице, никогда не было открытой моральной оценки или преувеличенного ужаса интеллектуалов «как мы, такие нежные, должны дышать рядом с этим». Было — предложение познакомиться, если ещё не довелось, с каким-то кусочком реальности.
О реакциях на спектакли post ходят легенды. С одной из их самых известных работ, «Я свободен» — пьеса Павла Пряжко в фотографиях и подписях, чья сценическая версия выглядела как любая комната, где Дмитрий Волкострелов мог найти проектор, розетку, стол, разместить ноутбук и листать высвечивающиеся на стену снимки дорожек, листьев, голубей, словом, микрослепки жизни, её смешных, красивых, просто понравившихся моментов, которые отражали взгляд и эмоцию смотрящих, невеликую, но очень тёплую, — зрители выходили демонстративно, с громким топотом и комментариями в духе «это бред». Театральный апокриф рассказывает, как, кажется, после спектакля «Поле» по пьесе того же Пряжко одна критик долго возмущалась, что сидевший в дальнем углу Волкострелов насильно удерживал её в зале, не давая уйти (вероятно, случайно загораживая проход стулом).
Аудиторию можно было понять. Российский и советский театр после изобретения правил МХТ и их же метода забирал изрядную долю власти над залом. А театр 2000-х ещё и особо любил фраппировать наивную, не приученную к «жести», бишь ломке театральных конвенций постсоветскую публику. Залы запирали после третьего звонка, людям запрещали выходить иначе, чем через сцену, у всех на виду и нарушая ход действия (тропа театрального позора, которая не снилась «воробьям» из «Игры престолов»), проделывали многие другие шалости, милые и не слишком. После такого убедительного приучения к современному искусству поверить, что тихий, не очень действенный спектакль — действительно медитативный, что ты имеешь полное право всё время смотреть в потолок, разглядывать соседей или составлять в голове меню на неделю, если происходящее не зацепило, вероятно, было сложно. Театр post, думается, останется в истории российского театра в том числе как проект с одной из самых несоответствующих идеям и ценностям команды и во многом самим постановкам рецепций.
Петербургский театр post, именем которого будет правильно назвать сразу всех участников от артистов, которые стабильно участвовали в проектах, до менеджеров и идейных драйверов, пожалуй, с момента появления в 2011 году стал притчей во языцех минимум для части аудитории. Если почитать особенно яростную прессу и отзывы, можно подумать, что post каждый показ начинал с ритуального сожжения полного собрания сочинений Станиславского, где-то в середине рвали зубами сборник пьес Чехова, а в финале выкапывали Щепкина и Ермолову и глумились над тем, что от них осталось. Ничего, конечно, подобного не происходило. Были — публично деликатнейший Дмитрий Волкострелов, который мог выйти и мягко попросить выключить звук телефонов или объяснить, какие действия могут предпринять зрители (но могут и не предпринимать, если не хотят), буквально тихие, неторопливые спектакли об обычно максимально простых, повседневных вещах, которыми команда ненавязчиво любовалась: бытовые разговоры, ежедневные действия, привычные ритуалы. В постановках post, чьими героями становились люди, которых легко встретить на улице, никогда не было открытой моральной оценки или преувеличенного ужаса интеллектуалов «как мы, такие нежные, должны дышать рядом с этим». Было — предложение познакомиться, если ещё не довелось, с каким-то кусочком реальности.
О реакциях на спектакли post ходят легенды. С одной из их самых известных работ, «Я свободен» — пьеса Павла Пряжко в фотографиях и подписях, чья сценическая версия выглядела как любая комната, где Дмитрий Волкострелов мог найти проектор, розетку, стол, разместить ноутбук и листать высвечивающиеся на стену снимки дорожек, листьев, голубей, словом, микрослепки жизни, её смешных, красивых, просто понравившихся моментов, которые отражали взгляд и эмоцию смотрящих, невеликую, но очень тёплую, — зрители выходили демонстративно, с громким топотом и комментариями в духе «это бред». Театральный апокриф рассказывает, как, кажется, после спектакля «Поле» по пьесе того же Пряжко одна критик долго возмущалась, что сидевший в дальнем углу Волкострелов насильно удерживал её в зале, не давая уйти (вероятно, случайно загораживая проход стулом).
Аудиторию можно было понять. Российский и советский театр после изобретения правил МХТ и их же метода забирал изрядную долю власти над залом. А театр 2000-х ещё и особо любил фраппировать наивную, не приученную к «жести», бишь ломке театральных конвенций постсоветскую публику. Залы запирали после третьего звонка, людям запрещали выходить иначе, чем через сцену, у всех на виду и нарушая ход действия (тропа театрального позора, которая не снилась «воробьям» из «Игры престолов»), проделывали многие другие шалости, милые и не слишком. После такого убедительного приучения к современному искусству поверить, что тихий, не очень действенный спектакль — действительно медитативный, что ты имеешь полное право всё время смотреть в потолок, разглядывать соседей или составлять в голове меню на неделю, если происходящее не зацепило, вероятно, было сложно. Театр post, думается, останется в истории российского театра в том числе как проект с одной из самых несоответствующих идеям и ценностям команды и во многом самим постановкам рецепций.
Причём тут балетный хореограф Максим Петров? О том, что его спектакли во многом точно так же децентрализованы и предлагают аудитории наблюдать за каскадом аттракционов, а соприкасаться и доходить до чего-то вместе, уже сказано выше. Ещё они, как и работы post и одного из их ключевых драматургов, Павла Пряжко, могут выглядеть либо нарушающими законы театра или хореографии, разрывающими устои, либо вопиюще несделанными, собранными из случайного сора, слишком разреженных элементов или чужих находок. А также спектакли Петрова, как и постановки post, обращены к маленьким, непарадным моментам, и предлагают увидеть мир значимым вне зависимости от иерархической ценности.
Есть и ещё одно обстоятельство, которое позволяет говорить об общности идей и метода хореографа и театра. Максим Петров, долгое время живший в Петербурге и работавший в Мариинском театре, хоть пару раз, но стал частью команды post — был хореографом «Диджея Павла», спектакля-плейлиста из 11 советских эстрадных песен, и его сиквела «Два перстня». post относился к тому сегменту российского театра, чьей обязательной частью бытования было сообщество людей со схожими взглядами. Случайно туда не прибивались.
Карьерно Петров и в момент участия в «Диджее» и «Перстнях», и тем более сейчас мало похож на postовцев. Хореограф, неоклассик, худрук одной из ключевых в стране балетных компаний, человек, работавший в Мариинском и и теперь уже Большом.
Есть и ещё одно обстоятельство, которое позволяет говорить об общности идей и метода хореографа и театра. Максим Петров, долгое время живший в Петербурге и работавший в Мариинском театре, хоть пару раз, но стал частью команды post — был хореографом «Диджея Павла», спектакля-плейлиста из 11 советских эстрадных песен, и его сиквела «Два перстня». post относился к тому сегменту российского театра, чьей обязательной частью бытования было сообщество людей со схожими взглядами. Случайно туда не прибивались.
Карьерно Петров и в момент участия в «Диджее» и «Перстнях», и тем более сейчас мало похож на postовцев. Хореограф, неоклассик, худрук одной из ключевых в стране балетных компаний, человек, работавший в Мариинском и и теперь уже Большом.
Но карьерный трек не обязан описывать установки — и в случае Петрова не описывает. Можно прийти в Урал Балет, сменив руководителя, чьё имя практически слилось с театром, стало символом его успеха, — и начать со спектакля, который подчёркнуто совместно ставит большая команда, собрать большое хореографическое полотно заодно с теми, чей послужной список намного меньше, а поле деятельности остается в пределах родной сцены (как было бы легко закатить феерию имени Максима Петрова, лауреата премии «Золотая Маска», получившего премию за «одноразовый балет, поставленный для себя», к тому же чудом вышедший). Можно поиронизировать над кокошечностью в Мариинском, где прочно прописался шубный обвес, — правда, на момент выхода «Байки/Мавры/Поцелуя феи» преимущественно в оперной части. Наконец, можно дебютировать в Большом, на залитой золотом Исторической, и сочинить формально крупномасштабный и по сути камерный спектакль, держащийся на элементах, предполагающих, что аудитории интересно вместе собирать как пазл характеристики персонажей, сопоставлять типы прыжков, направления рук и линий, открытость и закрытость поз, силу касаний. Можно, как и в Урал Балете, театре по-хорошему домашнем, где публика привыкла искренне любить свою труппу и с доверием относиться к задумкам постановщиков, сочинять самую ожидаемую и часто бравурную часть, свадебный дуэт героев, не как демонстрацию всех ресурсов танцовщиков, а как интимный акт.
Этот момент в «Коньке» особенно интересен. Петров уже попробовал дать в «Сказках Перро» влюблённым Пальчику-с-пальчик и Дюймовочке па-де-де на пустой, в белом дымном мареве сцене, убрать обстановку и наблюдающий кордебалет. В «Коньке» он пошёл ещё дальше и растушевал сам танец.
Этот момент в «Коньке» особенно интересен. Петров уже попробовал дать в «Сказках Перро» влюблённым Пальчику-с-пальчик и Дюймовочке па-де-де на пустой, в белом дымном мареве сцене, убрать обстановку и наблюдающий кордебалет. В «Коньке» он пошёл ещё дальше и растушевал сам танец.
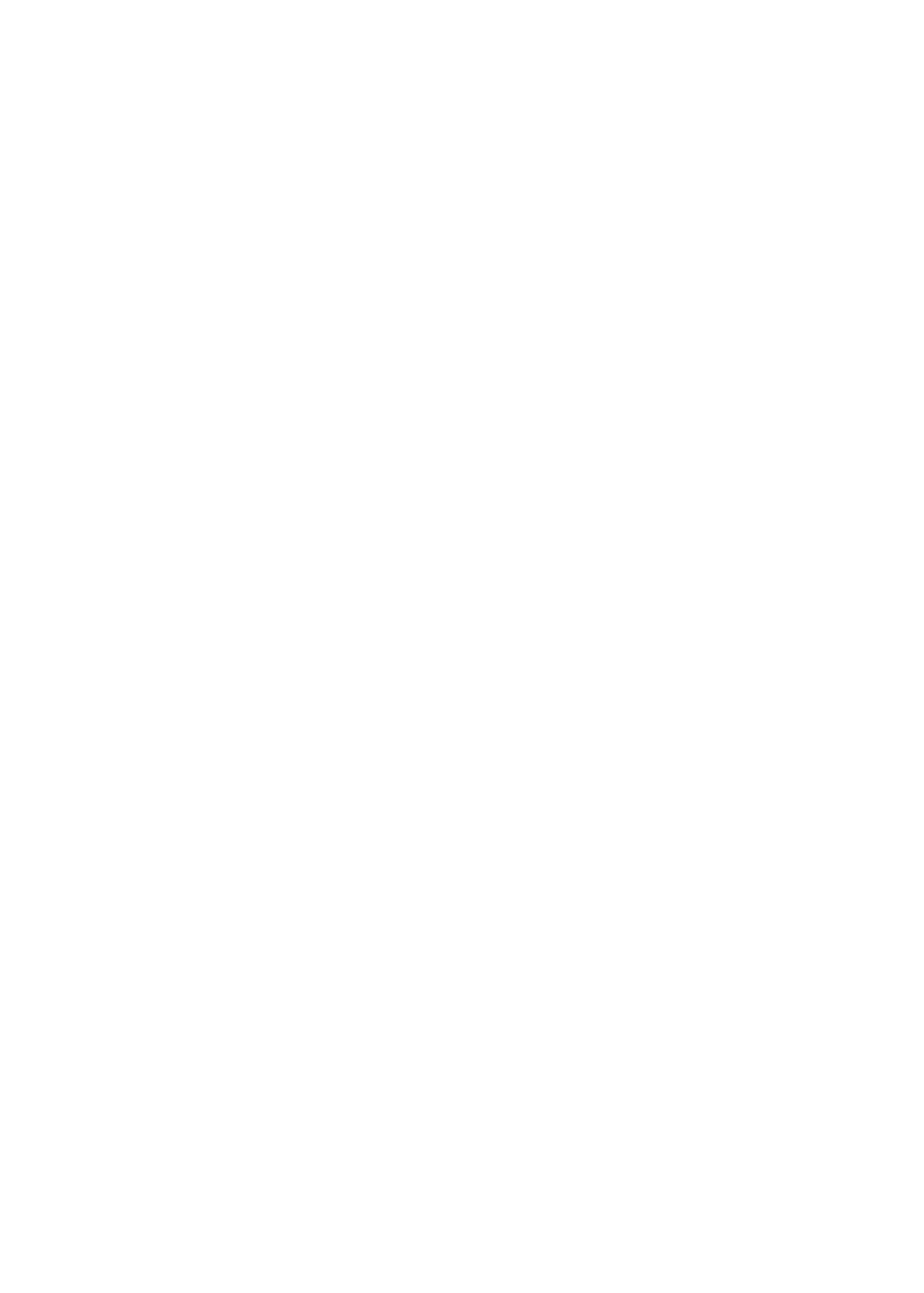
Жар-птица/ Царь-девица — Анастасия Сташкевич. Иван — Владислав Лантратов.
Часть времени Иван и Царь-девица, наконец обретшие друг друга, просто стоят. Они, как положено новобрачным, композиционно в центре ансамбля, то есть толпы гостей — но не возглавляют её, а остаются в собственном невидимом коконе неподвижности. Петров, которому хорошо удаётся многослойное, разнонаправленное и одновременное действие на сцене, сопоставляет гипердинамичный танец кордебалета, который сливается в разноцветный вихрь, и застывшую в глазу этого урагана отмечания пару.
Очень легко сказать, что хореограф исчерпал идеи к концу, не умеет ставить па-де-де и прочее привычно-отлупное. Однако па-де-де Петров не раз придумывал. Хореограф создаёт зону пластической тишины, буквальной и метафорической, чтобы дать всем сделать вдох — и ощутить, что тут, собственно, происходит. Счастье любит тишину, а тишина позволяет прислушаться к себе и к другим.
Кроме прочего, эпизод не-танцевания встроен так, чтобы предложить неконвенциональное отношение к выражению чувств через движение. Если пробовать переносить на музыкальный и танцевальный театр привычки драматического театра, пробовать объяснить, почему люди могут начать делать то, что в обыденной жизни не практикуют, можно прийти, например, к тому, что вокальные или танцевальные эпизоды — выражение предельных, переполняющих эмоций. В дуэте Ивана и Царь-девицы же отыгранная мимически сильная, с оттенком неверия в реальность происходящего — только же что должна была случиться разлука — радость внезапного соединения оказывается поводом оцепенеть. Чувства не всегда бьют фонтаном наружу, они могут и уходить вовнутрь — что, если кому-то требуется от балета именно эта характеристика, добавляет психологичности. Возможности ощутить момент, его наполнение.
Очень легко сказать, что хореограф исчерпал идеи к концу, не умеет ставить па-де-де и прочее привычно-отлупное. Однако па-де-де Петров не раз придумывал. Хореограф создаёт зону пластической тишины, буквальной и метафорической, чтобы дать всем сделать вдох — и ощутить, что тут, собственно, происходит. Счастье любит тишину, а тишина позволяет прислушаться к себе и к другим.
Кроме прочего, эпизод не-танцевания встроен так, чтобы предложить неконвенциональное отношение к выражению чувств через движение. Если пробовать переносить на музыкальный и танцевальный театр привычки драматического театра, пробовать объяснить, почему люди могут начать делать то, что в обыденной жизни не практикуют, можно прийти, например, к тому, что вокальные или танцевальные эпизоды — выражение предельных, переполняющих эмоций. В дуэте Ивана и Царь-девицы же отыгранная мимически сильная, с оттенком неверия в реальность происходящего — только же что должна была случиться разлука — радость внезапного соединения оказывается поводом оцепенеть. Чувства не всегда бьют фонтаном наружу, они могут и уходить вовнутрь — что, если кому-то требуется от балета именно эта характеристика, добавляет психологичности. Возможности ощутить момент, его наполнение.
Безусловно, поставить главных героев на стоп посреди общего ликования — осознанный отказ следовать правилам; гораздо проще и безопаснее сделать то, что ждут, и поставить дуэтный танец на протяжении всего соответствующего музыкального эпизода. Но Максим Петров и в плане высказывания делает анти-жест. Неподвижность Царь-девицы и Ивана просто есть. Она обманчиво встроена в композицию, отодвинута на средний план, заслонена активностью ансамбля на первом плане и вокруг. Если не присматриваться (балет же — не место для размышлений), то, что влюблённые не танцуют в конце, можно и не заметить. На сцене артисты имелись? Да. Что-то там шевелилось? Да. Красиво было? Да. Ну и отлично.
Только через эту сцену уже можно характеризовать инаковость балета «Конёк-горбунок». Нарративный, но персонажи создаются с помощью движений как символической системы, а не транслитерации конечностями. Большой, но состоящий преимущественно из деталей. Рассказывающий историю, но обо всех, а не о главных и второстепенных. Сказка, но с множеством инкрустаций из сегодняшнего мира. Наконец, это балет, который выглядит как привычное — масштабное и условное — сочинение, и в то же время мечта о балете как территории самостоятельной рефлексии. Месте, куда приходят не только на впечатляющее зрелище, но и подумать о происходящем на сцене, о том, как волшебные приключения могут соотноситься с реальностью, из которой приходят на спектакль. Месте для коммуникации со взрослыми людьми, которые, выйдя из театра, могут, прежде всего для себя, понять, что что-то близко, что-то оставляет равнодушными или противоречит художественным и моральным установкам, и попробовать ответить, почему так.
Только через эту сцену уже можно характеризовать инаковость балета «Конёк-горбунок». Нарративный, но персонажи создаются с помощью движений как символической системы, а не транслитерации конечностями. Большой, но состоящий преимущественно из деталей. Рассказывающий историю, но обо всех, а не о главных и второстепенных. Сказка, но с множеством инкрустаций из сегодняшнего мира. Наконец, это балет, который выглядит как привычное — масштабное и условное — сочинение, и в то же время мечта о балете как территории самостоятельной рефлексии. Месте, куда приходят не только на впечатляющее зрелище, но и подумать о происходящем на сцене, о том, как волшебные приключения могут соотноситься с реальностью, из которой приходят на спектакль. Месте для коммуникации со взрослыми людьми, которые, выйдя из театра, могут, прежде всего для себя, понять, что что-то близко, что-то оставляет равнодушными или противоречит художественным и моральным установкам, и попробовать ответить, почему так.
У балетов Петрова есть ещё одна черта, для взаимодействия с которой аудитории могут пригодиться дополнительные настройки глаза и головы. Мы более или менее привыкли, что балет бывает по отдельности зрелищный, аналитический или апеллирующий к эмоциям. Временами эти типы встречаются — например, Уэйн МакГрегор, чья хореография без дополнительного сопровождения скорее формальна, с помощью сверхмелодраматичной музыки «докручивает» градус эмоциональности в своих постановках.
Петров же — неоклассик по мышлению и методу — ставит вещи, где форма устроена так, чтобы вызывать эмоцию. Это сбивает. «Правильная», «аутентичная» американская неоклассика баланчинского извода предполагает, по выражению Инны Скляревской, «показ танца», а не чувства, которое артисты, как завещал психологический театр, должны прожить и протранслировать в зал. «Русская» неоклассика — сперва пластический рисунок покупных спектаклей, взболтанный с привычкой к крупнопомольной актёрской выразительности, а затем и оригинальные местные постановки по тому же образцу, — предложила считать, что очистка танца до движенческого остова была мимолётной блажью, а настоящий балет всегда усердно переживает.
Максим Петров же выбирает вариант «другое». Чистый танец. Эмоция, которую можно испытать, следя за композицией и сменой движений. Причём не яркая и практически универсально доступная, как в драмбалетах (люди могут не проникаться заломанными руками, но посыл считают), а очень тихая. Забудьте о мелодраматично любить до гроба, страдать до упаду и дружить взасос. Хореограф использует маленькие, рассчитанные на умение читать пространство и тело как символическую систему, движения, чтобы передать такие же простые и при этом всеобъемлющие чувства.
Максим Петров же выбирает вариант «другое». Чистый танец. Эмоция, которую можно испытать, следя за композицией и сменой движений. Причём не яркая и практически универсально доступная, как в драмбалетах (люди могут не проникаться заломанными руками, но посыл считают), а очень тихая. Забудьте о мелодраматично любить до гроба, страдать до упаду и дружить взасос. Хореограф использует маленькие, рассчитанные на умение читать пространство и тело как символическую систему, движения, чтобы передать такие же простые и при этом всеобъемлющие чувства.
Например, оммажное па-де-де Мальчика-с-пальчик и Дюймовочки в финале «Сказок Перро» — и бесконечное признание в любви уже человеческой, письмо близкому человеку, с которым понимание таково, что можно использовать любые слова, любые отрывки и намёки, и получится передать состояние, и высказывание на тему того, что если есть что-то, что способно пережить любые потрясения, буквально поднять из мёртвых, то это любовь, only lovers left alive. В «Коньке-горбунке», полностью так построенному, самое, пожалуй, трогательное место — даже не нейтрализованный дуэт влюблённых на свадьбе, а то, как меняется направление движения Конька в момент, когда ему пора отправляться дальше. Всё действие он развёрнут к Ивану лицом — глазами — и, что ещё символичнее, корпусом — сердцем — и зовёт ведущей правой рукой вдаль, к мечтам и приключениям. Когда герои прощаются, пройдя вместе длинный путь, Конёк устремляется вдаль за кистью уже в одиночку. Он перестаёт нарушать как маленький обиженный ребёнок совместные движения влюблённых, встраивается в их танец, бьёт поклон — и, возможно, впервые встаёт относительно друга в закрытую позу, поворачивается корпусом к внешнему миру, порталу и залу, откуда в самом начале он буквально вломился, разорвав занавес, в сказочное царство. Пора, друг, пора.
В «Коньке-горбунке»...самое, пожалуй, трогательное место — даже не нейтрализованный дуэт влюблённых на свадьбе, а то, как меняется направление движения Конька в момент, когда ему пора отправляться дальше.
Форма в балете редко оказывается источником и проводником чувства — вероятно, потому, что не все люди испытывают яркие эмоции от того, что артисты меняют положения, а хореограф играет с градусом наклона, силой движения или весом. Однако в жизни подобное называется языком тела и считывается более универсально. Спектакли Петрова предлагают интегрировать, безусловно, вложенное культурой, но интуитивное в применении знание в балет, заменить одну символическую систему на другую — и приходить в театр чувствовать не благоговение или очищение, а что-то более простое и такое же ценное. Или в принципе — приходить в театр чувствовать, переживать рождение собственной не запрограммированной заранее эмоции, а не быть культурно обязанными посетителями безымянного музея, где начинается действие «Павильона Армиды».
Как сложится судьба тихого балета Максима Петрова, естественно, прямо сейчас не узнать. Но, если продолжать аналогию с театром post, об одной закономерности можно сказать.
Судьбу явлений, где есть разом и неследование правилам, и отказ от манифестации, и ненасильственность коммуникации со зрителями, предложение посмотреть в одну сторону, а не требование сию секунду навсегда сменить оптику, часто не определяют, конечно, но многократно улучшают люди, готовые слушать тихий голос и смотреть тихие спектакли. Тот же post как начал свою театральную биографию в ячейке «Эксперимент», так в ней и остался, лишь иногда прорываясь в «Малую форму», место для тех, кого признавали достаточно легимной частью процесса. Однако рецепция с 2011 до 2022 года значительно изменилась — и за эти 10 лет люди, которые публично высказываются о театре, если не приняли работы postовцев полностью, то привыкли к их системе координат и постепенно учились применять подходящие инструменты анализа, искали лексикон.
Судьбу явлений, где есть разом и неследование правилам, и отказ от манифестации, и ненасильственность коммуникации со зрителями, предложение посмотреть в одну сторону, а не требование сию секунду навсегда сменить оптику, часто не определяют, конечно, но многократно улучшают люди, готовые слушать тихий голос и смотреть тихие спектакли. Тот же post как начал свою театральную биографию в ячейке «Эксперимент», так в ней и остался, лишь иногда прорываясь в «Малую форму», место для тех, кого признавали достаточно легимной частью процесса. Однако рецепция с 2011 до 2022 года значительно изменилась — и за эти 10 лет люди, которые публично высказываются о театре, если не приняли работы postовцев полностью, то привыкли к их системе координат и постепенно учились применять подходящие инструменты анализа, искали лексикон.
Но у post было много предшественников и разработанная, пусть и медленно доходившая до России теоретическая база, система подсказок, с чего начать, куда и как посмотреть, чтобы увидеть. В российском балете же ныне живущих и работающих людей, подобных Петрову, у которых не-виртуозность не равна халтуре, лаконичность и камерность приглашают подойти к рассматриваемому явления поближе, внимательно рассмотреть его, а гуманный взгляд на мир важен настолько же, насколько рисунок танца, недостаточно, чтобы существовали привычка замечать такие работы и аналитический подход к ним. А теоретическая база, которая помогла бы настроить глаз, фактически отсутствует.
Пока что Максим Петров — иной хореограф, которого нам всем надо учиться видеть и описывать. Где мы встретимся через 10 лет? Там, где тихий балет обретёт своё место. Там, где мы начнём находить смысл в не-громкости.
Пока что Максим Петров — иной хореограф, которого нам всем надо учиться видеть и описывать. Где мы встретимся через 10 лет? Там, где тихий балет обретёт своё место. Там, где мы начнём находить смысл в не-громкости.
Автор не поддерживает употребление понятия «нормальный» как обозначения человека, отвечающего общественным ожиданиям и правилам, но контекстуально использует его в этом значении в силу принятости. Более точным и корректным описанием будет «ведущий себя согласно установкам, принятым в конкретном обществе».
Постановщики — Максим Петров («Павильон»), Антон Пимонов («Венгерские танцы»), Слава Самодуров (Sextus Propertius), премьера в апреле 2023 года.
Дефиле Парижской оперы — ежегодное событие, с которого начинается сезон балетной труппы театра. На сцену Оперы Гарнье в иерархическом порядке, от младших учеников школы до старших этуалей, выходит весь коллектив танцовщиков Оперы. Дефиле демонстрирует устройство труппы и её масштаб.
Поскольку здесь речь в значительной мере о том, как хореограф создает свой метамир, формирует и кристаллизует темы, на которые высказывается, кейс с чтением «Павильона Армиды» и обстоятельствами появления, которые во многом перетянули на себя внимание и создали, по крайней мере, для автора текста, ложные интерпретационные ориентиры, особенно показателен. В момент, когда Урал Балет одним и тем же вечером прощался с уходившим с поста Славой Самодуровым и принимал Максима Петрова как нового худрука, ключевые мотивы «Павильона» — неловкость, не-идеальность, встреча с искусством как трансформационный опыт, балет как пространство испытания на прочность — могли читаться как жест уважения в адрес Самодурова, который работал и работает с похожими темами. Из-за этого терялась важная и гораздо более крепкая связь «Павильона» с «Поцелуем феи» (2021, Мариинский театр, часть вечера «Байка/Мавра/Поцелуй феи»), где Петров подробно рефлексировал о схожих категориях и, к тому же, использовал многие пластические и драматургические приёмы, попавшие и в большетеатровского «Конька».
Таким образом, тему инаковости в его нарративных или близких к нарративности работах можно прослеживать минимум с 2021 года.
Таким образом, тему инаковости в его нарративных или близких к нарративности работах можно прослеживать минимум с 2021 года.
Автор сценографического решения — Альона Пикалова.
2024 год, Нижегородский театр оперы и балета.
2020 год, Самарский театр оперы и балета (Шостакович Опера Балет), в рамках вечера «Самара. Шостакович. Балет I».
Минимум с XIX века российский театр был не столько пространством развлекательного и эстетического, сколько замещал пространства свободной общественной дискуссии, невозможной в реальной жизни. Из-за того, что вопросы, требовавшие разрешения, обсуждались в острой фазе и часто эзоповым языком, сформировалась специфическая, несколько крикливая манера коммуникации, которая влияла на ожидания от любого театра.
В музыкальном и танцевальном театре же привычка к «шумности» во многом идёт от масштабных зрелищ XIX века, которые позже воспроизводило советское искусство.
В музыкальном и танцевальном театре же привычка к «шумности» во многом идёт от масштабных зрелищ XIX века, которые позже воспроизводило советское искусство.
На момент написания текста, лето 2025 года, театр post находится на паузе – команда официально не сообщала о роспуске, но и не функционирует ни в каком качестве. Последняя запись в соц.сетях post датирована 22 февраля 2022 года. Участники вроде основателя, худрука и режиссёра Дмитрия Волкострелова, помощника худрука Дмитрия Ренанского, директоров Дмитрия Коробкова и Ксении Волковой выпускают сольные проекты.
Так, на спектакль «Околоноля» Кирилла Серебренникова (2011 год, Малая сцена МХТ) зрителей пускали через служебные помещения, проводя через закулисную часть на сцену и через неё в зал. Выйти во время акта можно было только тем же путём, манифестировал свой отказ смотреть спектакль.
Слово в том же смысле, как в термине монтаж аттракционов — череда ярких, явно воздействующих приёмов.
2018 год, номинант на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» в категории «Эксперимент».
2019 год. https://ptj.spb.ru/blog/dvizhenie-zhizni/
Тут можно учесть и что Петров дебютировал в Урал Балете за несколько лет до своего назначения, поставил одноактовку на музыку Леонида Десятникова внутри вечера L.A.D. Её имя, «Три тихие пьесы», и хореографические особенности из 2025 года выглядят пророческими — на самом деле будучи не предзнаменованием, а логичной частью эволюции идей.
Речь о «Русских тупиках II», за которые Максим Петров получил «Золотую Маску» как лучший хореограф. Балет поставлен в рамках очередной программы «Творческой мастерской молодых хореографов» Мариинского театра, формат которой редко предполагал повторный прокат. Премьера состоялась 17 марта 2020 года, в день, когда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился закрыть городские театры в связи с распространением COVID-19. Петербургские театры полностью прекратили работу 18 марта 2020 года.
Стоит отметить, что эпизод неподвижности расположен между камерным свадебным дуэтом, размещённым на пустой сцене под звёздами, включающим конвенционально эффектные па, и вариациями Царь-девицы и Ивана — то есть структурно политес соблюдён.
Скляревская И. Баланчин в Советском союзе // Петербургский театральный журнал. 1994. №6. С. 40-43. URL: https://ptj.spb.ru/archive/6/v-peterburge-i-dalee-vezde-6/balanchin-vsovetskom-soyuze/ (дата обращения 04.07.2025)
Па-де-де Мальчика-с-пальчик и Дюймовочки следует за большой битвой людей-жуков и Людоеда, где в финале погибают все. Грибная фея, хозяйка мира, где обитают все персонажи спектакля, воскрешает влюблённых, и их дуэт происходит буквально в пространстве пустоты, оставшемся после тотального разрушения.
Референс из трека группы Die Antwoord. Freaky имеет несколько значений, в том числе сленговое «изумительный, поразительный» (австралийский английский).
В материале использованы фотографии Михаила Логвинова/Большой театр