А куклы — кто?
Балет МАМТа после балетного двухчастного вечера «Место во Вселенной» Славы Самодурова и Максима Севагина продолжает сезон диптихом, который, если судить по составу хореографов, должен отвечать за контемпорари-составляющую. «Стравинский. Куклы. Танцы», состоящий из «Петрушки» и «Жар-птицы», поставили Константин Семёнов и Кирилл Радев. Тата Боева отправилась на современные версии дягилевских постановок и размышляет, как можно общаться с традицией, чтобы все сёстры получили серьги, а также о балете как наборе картинок.
Со своим либретто
Можно долго спорить о том, писать ли в современных балетах сначала хореографа или композитора. Одно остаётся более или менее неизменным. Если театр выносит на первую строку режиссёра, — бегите. Быстро. Всё, что надо знать о премьере, вы уже увидели.
Так можно было бы начать текст для телеграма или морально почившего ЖЖ, где уже давно не обитают лидеры мнений, не сильно наврав и собрав жадную до жаренного и зубастого аудиторию. Тем более, что МАМТ уже второй раз за последние годы устраивает подобный опыт, и каждый раз в нём что-то не срабатывает. Однако здесь мы за скучным длинным анализом. Первый абзац — зачеркнуть.
Так можно было бы начать текст для телеграма или морально почившего ЖЖ, где уже давно не обитают лидеры мнений, не сильно наврав и собрав жадную до жаренного и зубастого аудиторию. Тем более, что МАМТ уже второй раз за последние годы устраивает подобный опыт, и каждый раз в нём что-то не срабатывает. Однако здесь мы за скучным длинным анализом. Первый абзац — зачеркнуть.
Сколько ни зовут драматических и околодраматических режиссёров на танцевальную сцену, помогают ли они, мешают, — наука не выяснила. Каждый приходящий портит — если это делает — постановки по-своему. Кирилл Серебренников, который во многом начал волну «а давайте позовём драматических с именами», судя по виду «Героя нашего времени» и «Нуреева», принципиально не обговаривал замысел с Юрием Посоховым, из-за чего концепция не встречалась с хореографией. Константин Богомолов, под началом которого Максим Севагин ставил в МАМТе «Ромео и Джульетту», взялся за неинтересный ему материал и активно это демонстрировал. Из более-менее крупных авторов самым удачливым пока остаётся Александр Молочников. Его в «Чайке» Большого театра было практически не видать. Возможно, лучший начинающий драматический режиссёр балета с громким именем — тот, кто сразу проследовал в кассу.
Есть и ещё одна опция: режиссёр, который работает в сцепке с хореографом. Но среди них редко встречаются те, кого называют топовыми постановщиками, — и это отдельный случай, обычно дающий поговорить о командной работе и относительно новых участниках тандемов.
Режиссёр Алексей Франдетти, чьё имя МАМТ даёт до имён хореографов Константина Семёнова и Кирилла Радева, к вечеру «Стравинский. Куклы. Танцы» местами приложил значительные усилия. В «Петрушке» Семёнова его явное влияние минимально. Это живой, полный пластического юмора, с уважением и нежностью вписывающийся в разные традиции спектакль, который в первую очередь сделал человек, хорошо знающий труппу, — Константин поступил в МАМТ сразу после училища и танцевал здесь в период Урина-Черномуровой. «Жар-птица» же, особенно если иметь представление об основной сфере работы Франдетти, мюзикле, и его постановках там, руинирована уверенной рукой профессионала. Кирилл Радев, которому не везёт со второй крупной работой подряд, в новом либретто авторства Франдетти практически не имеет опоры и, как и в нижегородской «Девушке и смерти», пытается заполнить огромные пустоты, из которых преимущественно состоит доставшаяся ему история.
Есть и ещё одна опция: режиссёр, который работает в сцепке с хореографом. Но среди них редко встречаются те, кого называют топовыми постановщиками, — и это отдельный случай, обычно дающий поговорить о командной работе и относительно новых участниках тандемов.
Режиссёр Алексей Франдетти, чьё имя МАМТ даёт до имён хореографов Константина Семёнова и Кирилла Радева, к вечеру «Стравинский. Куклы. Танцы» местами приложил значительные усилия. В «Петрушке» Семёнова его явное влияние минимально. Это живой, полный пластического юмора, с уважением и нежностью вписывающийся в разные традиции спектакль, который в первую очередь сделал человек, хорошо знающий труппу, — Константин поступил в МАМТ сразу после училища и танцевал здесь в период Урина-Черномуровой. «Жар-птица» же, особенно если иметь представление об основной сфере работы Франдетти, мюзикле, и его постановках там, руинирована уверенной рукой профессионала. Кирилл Радев, которому не везёт со второй крупной работой подряд, в новом либретто авторства Франдетти практически не имеет опоры и, как и в нижегородской «Девушке и смерти», пытается заполнить огромные пустоты, из которых преимущественно состоит доставшаяся ему история.
Главный вклад Франдетти в «Жар-птицу» — новый сюжет. Как режиссёр он нечасто работает с историческими обстоятельствами, тем более откровенно сказочными. Оригинальный синопсис Михаила Фокина в духе псевдо-рюс конца XIX века едва ли подходил. Взяв базис — есть главный герой, который что-то ищет, есть мистическая Жар-птица — Франдетти придумал современную версию событий. Вместо Ивана-царевича — архитектор в творческом кризисе. Вместо Жар-птицы сказочной — Жар-птица сегодняшняя, похожая на Лилу из «Пятого элемента». Только не такая идеальная и довольно злонамеренная. В принципе, всё.
Если «Петрушка» устоял за счёт характеров персонажей и танцев, которые щедро сочинил Константин Семёнов, то «Жар-птица» буквально повисла на остатках либретто. Версия текста для публики скупа: архитектор выгорел, смотрите, что будет. Говорят, где-то есть расширенный вариант, но его не предъявили. Судя по тому, какие многокилометровые куски, которые нужно заполнить только танцем, пришлось осваивать Радеву, полный синопсис не намного подробнее.
Оригинальное либретто было кудряво-кафтанистым, но задавало общее настроение. Плюс за ним был железный план танцев. Михаил Фокин, человек ещё мариинской закалки, заставший Петипа, это умел. Сейчас же навык «пишем вместо сюжета общую ерунду, хореографическая композиция в уме» утерян. Радев остался один на один с хронометражем музыки, настолько великой, что купюры в ней не разрешат (хотя иногда стоит так спасти постановщика), жидким сюжетом и необходимостью, по сути, поставить много чистого танца — с чем не справился.
Если «Петрушка» устоял за счёт характеров персонажей и танцев, которые щедро сочинил Константин Семёнов, то «Жар-птица» буквально повисла на остатках либретто. Версия текста для публики скупа: архитектор выгорел, смотрите, что будет. Говорят, где-то есть расширенный вариант, но его не предъявили. Судя по тому, какие многокилометровые куски, которые нужно заполнить только танцем, пришлось осваивать Радеву, полный синопсис не намного подробнее.
Оригинальное либретто было кудряво-кафтанистым, но задавало общее настроение. Плюс за ним был железный план танцев. Михаил Фокин, человек ещё мариинской закалки, заставший Петипа, это умел. Сейчас же навык «пишем вместо сюжета общую ерунду, хореографическая композиция в уме» утерян. Радев остался один на один с хронометражем музыки, настолько великой, что купюры в ней не разрешат (хотя иногда стоит так спасти постановщика), жидким сюжетом и необходимостью, по сути, поставить много чистого танца — с чем не справился.
Одна из главных уязвимостей людей условно-тридцати-сорокалетних в российском танце… состоит в том, что они слишком долго находились в той зоне индустрии, где полноценной ответственности им никто не давал и учиться брать её на себя было не на чем
Одна из главных уязвимостей людей условно-тридцати-сорокалетних в российском танце, а Радев скорее из этой области, состоит в том, что они слишком долго находились в той зоне индустрии, где полноценной ответственности им никто не давал и учиться брать её на себя было не на чем. До 2022 года, когда резко востребованными оказались все хореографы, у кого хоть как-то есть руки и силы, российский контемпорари выглядел более-менее как поток бессюжетных спектаклей, свободных размышлений на тему. Структуры от «подпольщиков», «валяльщиков на полу», никто не ожидал. Внятности высказывания тоже. Часто их заменяла атмосфера, вайб. Когда все эти люди вышли на большие сцены и оказались теми, кто ставит в престижных театрах и выполняет их репертуарные планы — например, поставить спектакль к юбилею Михаила Фокина из списка его топовых названий, — многим стало откровенно не хватать ремесленных навыков. Тех самых, что достигаются упражнением, шанса на которое долго не было.
Однако на то и нужна большая команда в проекте, чтобы страховать друг друга. Особенно если чьё-то ещё имя первое в перечне.
В случае с «Жар-птицей» плотное в событийном смысле либретто могло бы помочь хореографу. Кирилл Радев периодически работает в зоне драматического современного танца и ставит экспрессивные движения, которые иллюстрируют конкретные действия. В «Жар-птице» архитектор Иван в момент, вероятно, особенно сильного творческого затыка начинает буквально биться головой о рабочий стол в ритм музыке. Этого хватает, чтобы, как в советском драмбалете, перейти от одной короткой мысли к другой. Чтобы заполнить большие хронометражи в духе «у героя кризис», способ не предназначен. Радев начинает повторяться.
Но либретто Франдетти выдержано в стиле балетов XIX века, чей простенький сюжет предполагал, что действие на самом деле не важно. Важны длинные красивые танцы, их композиция и изобретательность. В этой системе уместна пометка «танцы группы» из «Баядерки», которая называет почти весь акт теней. Балетмейстеру XIX века не нужен сюжет. Он всего лишь остов, на которую нанизываются номера. Современному хореографу, в частности, Кириллу Радеву, бóльшая подробность явно бы не помешала, — а её не случилось.
Однако на то и нужна большая команда в проекте, чтобы страховать друг друга. Особенно если чьё-то ещё имя первое в перечне.
В случае с «Жар-птицей» плотное в событийном смысле либретто могло бы помочь хореографу. Кирилл Радев периодически работает в зоне драматического современного танца и ставит экспрессивные движения, которые иллюстрируют конкретные действия. В «Жар-птице» архитектор Иван в момент, вероятно, особенно сильного творческого затыка начинает буквально биться головой о рабочий стол в ритм музыке. Этого хватает, чтобы, как в советском драмбалете, перейти от одной короткой мысли к другой. Чтобы заполнить большие хронометражи в духе «у героя кризис», способ не предназначен. Радев начинает повторяться.
Но либретто Франдетти выдержано в стиле балетов XIX века, чей простенький сюжет предполагал, что действие на самом деле не важно. Важны длинные красивые танцы, их композиция и изобретательность. В этой системе уместна пометка «танцы группы» из «Баядерки», которая называет почти весь акт теней. Балетмейстеру XIX века не нужен сюжет. Он всего лишь остов, на которую нанизываются номера. Современному хореографу, в частности, Кириллу Радеву, бóльшая подробность явно бы не помешала, — а её не случилось.
За то, насколько неудачным оказалось вмешательство Франдетти в «Жар-птицу», ответственность на всех — и ни на ком.
Мог ли Кирилл Радев сказать, что ему нужен более подробный план с меньшим расстоянием между контрольными точками, с более прописанными сценами? Считал ли он, что такая опора ему нужна? Насколько хорошо Алексей Франдетти, дебютант в танцевальном театре, знает его характерные проблемы? Считал ли он себя человеком, который помогает хореографу — чем и должен заниматься балетный режиссёр? Есть ли в МАМТе люди, чья задача вовремя увидеть, что конструкция может не сработать, и тоже помочь, посоветовать решение, а то и вмешаться своими руками?
Вопросов в в спектакле, как минимум в том, что касается либретто, больше, чем ответов. Птицы бывают вольные и домашние. Премьерной «Жар-птице» крепкая клетка либретто пошла бы на пользу.
Мог ли Кирилл Радев сказать, что ему нужен более подробный план с меньшим расстоянием между контрольными точками, с более прописанными сценами? Считал ли он, что такая опора ему нужна? Насколько хорошо Алексей Франдетти, дебютант в танцевальном театре, знает его характерные проблемы? Считал ли он себя человеком, который помогает хореографу — чем и должен заниматься балетный режиссёр? Есть ли в МАМТе люди, чья задача вовремя увидеть, что конструкция может не сработать, и тоже помочь, посоветовать решение, а то и вмешаться своими руками?
Вопросов в в спектакле, как минимум в том, что касается либретто, больше, чем ответов. Птицы бывают вольные и домашние. Премьерной «Жар-птице» крепкая клетка либретто пошла бы на пользу.
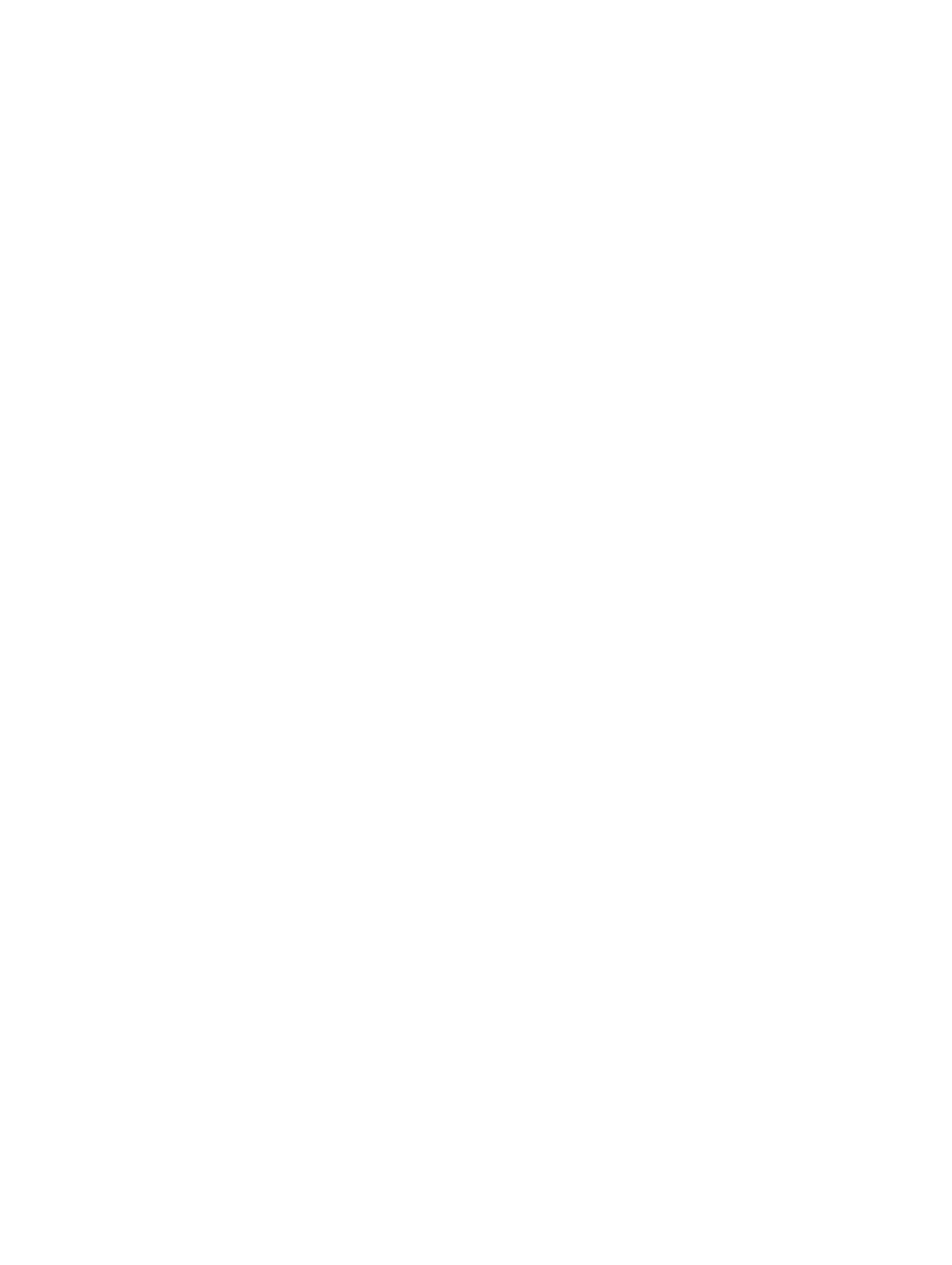
Ярмарка традиции
«Жар-птицу» можно мучать сколько угодно — и это, спойлер, продолжится. Однако у «Стравинский. Танцы. Куклы» есть первая, намного более удачная часть, которую легко не заметить, потому что ультимативной трактовки названия не случилось. Случился хороший, рабочий балет.
Константин Семёнов как постановщик относится к нужной, но недооценённой категории: база репертуара. Человек, который работает с понятным стабильным качеством и может сочинить хоть фантазию на тему барокко, хоть современную сказку, хоть взбодрить «золотой фонд». В «Петрушке», первой большой работе на основной сцене родного артистически для Семёнова театра, видно, насколько он по-хорошему уважительно — без низкопоклоннического пиетета — относится к ДНК труппы, историческому и современному. И с какой заботой он подходит к традиции названия, с которым работает. Как он видит, что ему потребуется и что поможет, а что можно не востребовать.
Сегодняшнее ДНК МАМТа в чём-то взаимоисключащее. Одна из балетных трупп, которая возникла в XX веке на волне сближения танцевального и драматического театра. Балетмейстер Владимир Бурмейстер, который долго определял пластическое лицо театра, стремился психологизировать балет, свести его с начинаниями, которые в годы его жизни были действующими, активными, актуальными: психологизацией театра, исканиями отцов-основателей МХТ. Благодаря его усилиям МАМТ — пристанище умного, тонкого драмбалета. Педагоги, которые передают мастерство Бурмейстера, например, легендарная прима Маргарита Дроздова, по сей день работают как репетиторы, обучают новые поколения солисток и солистов.
В то же время два последних перед нынешней командой больших периода — Урина/Черномуровой и Илера — добавили балету МАМТа новые черты. Из драмбалетной труппы он превратился в один из самых разносторонне оснащённых в России коллективов. За два десятилетия труппа успела как минимум познакомиться со множеством мировых хореографов, — с кем-то единственными в России, в чьих-то спектаклях превзойдя со временем эталонные исполнения.
Так образовалось обновлённое ДНК труппы. Всё ещё очень артистичная, умеющая и любящая играть, развивать характеры персонажей, и при этом умеющая присвоить разные техники.
Константин Семёнов как постановщик относится к нужной, но недооценённой категории: база репертуара. Человек, который работает с понятным стабильным качеством и может сочинить хоть фантазию на тему барокко, хоть современную сказку, хоть взбодрить «золотой фонд». В «Петрушке», первой большой работе на основной сцене родного артистически для Семёнова театра, видно, насколько он по-хорошему уважительно — без низкопоклоннического пиетета — относится к ДНК труппы, историческому и современному. И с какой заботой он подходит к традиции названия, с которым работает. Как он видит, что ему потребуется и что поможет, а что можно не востребовать.
Сегодняшнее ДНК МАМТа в чём-то взаимоисключащее. Одна из балетных трупп, которая возникла в XX веке на волне сближения танцевального и драматического театра. Балетмейстер Владимир Бурмейстер, который долго определял пластическое лицо театра, стремился психологизировать балет, свести его с начинаниями, которые в годы его жизни были действующими, активными, актуальными: психологизацией театра, исканиями отцов-основателей МХТ. Благодаря его усилиям МАМТ — пристанище умного, тонкого драмбалета. Педагоги, которые передают мастерство Бурмейстера, например, легендарная прима Маргарита Дроздова, по сей день работают как репетиторы, обучают новые поколения солисток и солистов.
В то же время два последних перед нынешней командой больших периода — Урина/Черномуровой и Илера — добавили балету МАМТа новые черты. Из драмбалетной труппы он превратился в один из самых разносторонне оснащённых в России коллективов. За два десятилетия труппа успела как минимум познакомиться со множеством мировых хореографов, — с кем-то единственными в России, в чьих-то спектаклях превзойдя со временем эталонные исполнения.
Так образовалось обновлённое ДНК труппы. Всё ещё очень артистичная, умеющая и любящая играть, развивать характеры персонажей, и при этом умеющая присвоить разные техники.
Константин Семёнов как артист МАМТа застал уринско-черномуровский период, время, когда каждая премьера становилась событием, — и, если судить по «Петрушке» и задачам, которые в нём поставлены, хорошо себе представляет, на что способны артисты, что подчёркивает их возможности. Фокинский «Петрушка» был умеренным экспериментом для блестящих артистов Императорского Мариинского театра. Семёновский — похожее сочинение для артистов МАМТа.
Семёнов щедро использует техники контемпорари, не забывая делать отсылки: это вы видели у Хана, это у Прельжокажа. И да, теперь это часть наследия театра. Самое же важное, что позволяет определить хореографию «Петрушки» именно к контемпорари, — то, каким здесь предстаёт тело. Это артистический инструмент. Семёнов делает драматический современный танец, как и Радев, но не только по форме, а по сути.
У всех персонажей «Петрушки», включая танцующие ножки ярмарочной шарманки, есть характер, переданный через присущее именно конкретному образу движения. Четыре пляшущие ноги шарманки — кокетливы и смешливы, то «раскланиваются», то чуть неуклюже рассинхронизированы. Девушки и парни на ярмарке — разухабисты и энергичны, их жесты, многократно усиленные длинными свободными юбками и брюками, заполняют всё пространство. Арап и Балерина механистичны и горделивы, постоянно красуются и всё делают чуть более жёстко, с напряжёнными мышцами, чем люди. Петрушка же весь — мягкий, соломенный, не имеющий физической опоры, бесхребетный телесно и стойкий морально. Его ключевой мотив — падение, поиск способа обрести вертикаль.
И именно в части движения постановка Семёнова подлинно театральна и следует одной из основных традиций МАМТа: тонкое проживание образа, психологических нюансов, через жест.
У всех персонажей «Петрушки», включая танцующие ножки ярмарочной шарманки, есть характер, переданный через присущее именно конкретному образу движения. Четыре пляшущие ноги шарманки — кокетливы и смешливы, то «раскланиваются», то чуть неуклюже рассинхронизированы. Девушки и парни на ярмарке — разухабисты и энергичны, их жесты, многократно усиленные длинными свободными юбками и брюками, заполняют всё пространство. Арап и Балерина механистичны и горделивы, постоянно красуются и всё делают чуть более жёстко, с напряжёнными мышцами, чем люди. Петрушка же весь — мягкий, соломенный, не имеющий физической опоры, бесхребетный телесно и стойкий морально. Его ключевой мотив — падение, поиск способа обрести вертикаль.
И именно в части движения постановка Семёнова подлинно театральна и следует одной из основных традиций МАМТа: тонкое проживание образа, психологических нюансов, через жест.
Работа с традицией, её присвоение и осмысление — важная черта «Петрушки»
Работа с традицией, её присвоение и осмысление — важная черта «Петрушки». Константин Семёнов не только вписывает спектакль разом в обе важные для МАМТа парадигмы, дома драматического балета и гипероснащённого коллектива с опытом освоения разных техник. Он заходит на территорию, с которой часто можно не вернуться невредимым: диалог с канонической версией.
Если говорить о количестве интерпретаций, «Петрушка» — название, менее привязанное к оригиналу, чем «Жар-птица». Оба балета не входят в число самых интерпретируемых в наследии «Русского балета» (не «Весна священная» и не «Послеполуденный», прямо скажем). Но у «Петрушки» всё же больше трактовок. Широко известных, пожалуй, нет. Удачные, приносящие новый смысл в сюжет, имеются. Например, «чёртова клоунада» Владимира Варнавы, царство подневольных марионеток Эдварда Клюга, страшновато-завораживающий мир сломанных манекенов Йохана Ингера. И, тем не менее, говоря «Петрушка», мы видим старые фото Вацлава Нижинского. Его выбеленное лицо, опавшую шею и печально повисшие руки-плети.
Въевшаяся в память пластика, намертво сцепившаяся с персонажем, легендарный исполнитель — комбо, способное задавить любого хореографа и утянуть за ним под лёд сравнений артиста. Константин Семёнов сделал вещь контринтуитивную. Он явно воспроизвёл на сцене один из самых узнаваемых и задокументированных жестов фокинско-нижинского Петрушки, свисающие тряпочками кисти. Мы же все знаем, как это должно быть? Вот вам оммаж, кивок автору-юбиляру. Но если оригинальный Петрушка был куклой, которая постоянно свисала с невидимых нитей, марионеткой, то Семёнов придумал своего паяца — полностью мягкого. Ведь петрушки были в балаганах и часто оказывались в том числе перчаточными куклами. Новый Петрушка будто не имеет костей, перекатывается, как колбаса, набитая соломой и тряпьём и облачённая в нехитрую одёжку. Главной его темой становится не любовь к Балерине, а потом месть, а поиск себя, опоры в этом мире. Похожая на стереотипную куклу Барби Балерина — блестящая актёрская и исполнительская работа Оксаны Кардаш, которая показала, что способна заразительно играть даже воплощённую пустоту, — способ проявить любовь семёновского Петрушки к миру. Он — игрушка, но любопытная и добрая, ищущая, и оттого даже не обретающая свой мстительный конец. Пластическая цитата из оригинального спектакля тут — отправная точка, чтобы создать новый характер на базе прежнего. Подумать, а каким ещё может быть этот печальный кукольный паяц.
Если говорить о количестве интерпретаций, «Петрушка» — название, менее привязанное к оригиналу, чем «Жар-птица». Оба балета не входят в число самых интерпретируемых в наследии «Русского балета» (не «Весна священная» и не «Послеполуденный», прямо скажем). Но у «Петрушки» всё же больше трактовок. Широко известных, пожалуй, нет. Удачные, приносящие новый смысл в сюжет, имеются. Например, «чёртова клоунада» Владимира Варнавы, царство подневольных марионеток Эдварда Клюга, страшновато-завораживающий мир сломанных манекенов Йохана Ингера. И, тем не менее, говоря «Петрушка», мы видим старые фото Вацлава Нижинского. Его выбеленное лицо, опавшую шею и печально повисшие руки-плети.
Въевшаяся в память пластика, намертво сцепившаяся с персонажем, легендарный исполнитель — комбо, способное задавить любого хореографа и утянуть за ним под лёд сравнений артиста. Константин Семёнов сделал вещь контринтуитивную. Он явно воспроизвёл на сцене один из самых узнаваемых и задокументированных жестов фокинско-нижинского Петрушки, свисающие тряпочками кисти. Мы же все знаем, как это должно быть? Вот вам оммаж, кивок автору-юбиляру. Но если оригинальный Петрушка был куклой, которая постоянно свисала с невидимых нитей, марионеткой, то Семёнов придумал своего паяца — полностью мягкого. Ведь петрушки были в балаганах и часто оказывались в том числе перчаточными куклами. Новый Петрушка будто не имеет костей, перекатывается, как колбаса, набитая соломой и тряпьём и облачённая в нехитрую одёжку. Главной его темой становится не любовь к Балерине, а потом месть, а поиск себя, опоры в этом мире. Похожая на стереотипную куклу Барби Балерина — блестящая актёрская и исполнительская работа Оксаны Кардаш, которая показала, что способна заразительно играть даже воплощённую пустоту, — способ проявить любовь семёновского Петрушки к миру. Он — игрушка, но любопытная и добрая, ищущая, и оттого даже не обретающая свой мстительный конец. Пластическая цитата из оригинального спектакля тут — отправная точка, чтобы создать новый характер на базе прежнего. Подумать, а каким ещё может быть этот печальный кукольный паяц.
Кукольный отдел
Вечер называется «Стравинский. Куклы. Танцы». Это и разграничение частей (вероятно, спектакль о куклах и спектакль о танцах, хотя «Жар-птица» и в оригинале, и в версии Кирилла Радева скорее не отвечает запросу «вещь о танце»), и буквальное описание. Балет МАМТа впервые сотрудничает с Театром кукол имени Сергея Образцова, одним из старейших в Москве, коллективом, который в последние годы ищет, где может находиться граница театра кукол и как он способен вливаться в другие направления. В 2022 году вся театральная Москва ломилась на их постановку «Я — Сергей Образцов», где заглавную роль играл драматический артист Евгений Цыганов. В 2022 году Образцова выпустил кукольный мюзикл «Рождественская история», где куклы разных типов играли вместе с людьми — режиссёром был Алексей Франдетти. И в 2025 году театр зашёл на танцевальную территорию.
Кукол для вечера делал Виктор Никонов, который работает и как мастер по предметам, и, что важнее, нередко и как сценограф. В «Стравинский. Куклы. Танцы» он обозначен как художник-постановщик — бишь ответственен не только за трюк, кукол среди танцовщиков, но за всю среду, в которой они существуют. Насколько разными оказались в смысле использования кукол «Петрушка» и «Жар-птица», возвращает к разговору, который в последние годы не раз возникал в связи с МАМТом: каков бриф, таков и креатив. Или же, если описывать распространённее и вежливее, даже самый хороший художник не может переломить видение хореографа.
Кукол для вечера делал Виктор Никонов, который работает и как мастер по предметам, и, что важнее, нередко и как сценограф. В «Стравинский. Куклы. Танцы» он обозначен как художник-постановщик — бишь ответственен не только за трюк, кукол среди танцовщиков, но за всю среду, в которой они существуют. Насколько разными оказались в смысле использования кукол «Петрушка» и «Жар-птица», возвращает к разговору, который в последние годы не раз возникал в связи с МАМТом: каков бриф, таков и креатив. Или же, если описывать распространённее и вежливее, даже самый хороший художник не может переломить видение хореографа.
Александр Бенуа для «Петрушки» идолов не придумывал. Зато самые известные в истории дягилевской антрепризы истуканы создал для «Весны священной» Николай Рерих. Фигуры, которые разработал Виктор Никонов, во многом их напоминают, но не повторяют явно. Получилась обобщенная локация из мира «Русских сезонов»
Для Константина Семёнова куклы разных форм и конструкций оказались частью мира постановки. Фантазийная ярмарка происходит среди огромных подвижных истуканов, которые работают и как техническое ограничение площадки, способ создать более камерное пространство, — всё же сцена МАМТа немала, а ансамбль, который мог бы полноценно её заполнить, Семёнов не получил, — и как атрибуты усреднённо-славянского антуража (получилась ярмарка «Московское варенье» со вкусом, выдумкой и чувством меры), и как отсылка к ранним дягилевским спектаклям. Александр Бенуа для «Петрушки» идолов не придумывал. Зато самые известные в истории дягилевской антрепризы истуканы создал для «Весны священной» Николай Рерих. Фигуры, которые разработал Виктор Никонов, во многом их напоминают, но не повторяют явно. Получилась обобщенная локация из мира «Русских сезонов», такая, если бы кто-то взял эскизы Рериха и решил по их мотивам устроить площадь «Петрушки». Этакое балетное псевдо-всех-эпох-рюс фэнтези.
Если истуканы служат средой, фоном, то ещё один тип кукол, подвижных, передвигающихся с помощью артистов, стали буквально дублёрами главных героев балета. Балерина и Арап сперва появляются в виде натуралистично выглядящих фигур, до выходаартистов и знакомства с их пластикой реалистичных, почти неотличимых от живых людей. Дублёры постоянно участвуют в действии, то и дело подменяя танцовщиков. Семёнов ставит для них, учитывая особенности кукольных тел и суставов, — наиболее впечатляюще это выглядит в дуэте Арапа с собственным отражением, которое играет кукла.
Если истуканы служат средой, фоном, то ещё один тип кукол, подвижных, передвигающихся с помощью артистов, стали буквально дублёрами главных героев балета. Балерина и Арап сперва появляются в виде натуралистично выглядящих фигур, до выходаартистов и знакомства с их пластикой реалистичных, почти неотличимых от живых людей. Дублёры постоянно участвуют в действии, то и дело подменяя танцовщиков. Семёнов ставит для них, учитывая особенности кукольных тел и суставов, — наиболее впечатляюще это выглядит в дуэте Арапа с собственным отражением, которое играет кукла.
Кроме того, мотив живого и неживого тела, наличия души, принципиально важен для постановки Семёнова, её основной идеи. У Петрушки, который с первых минут на сцене двигается как неживой, беспозвоночный, нет двойника-куклы — в отличие от более похожих на людей, внешне более человечных, но мёртвых внутри Балерины и Арапа. Его мы впервые видим в руках помощников-кукловодов, но в исполнении артиста. Кукла-дублёр возникает только в момент смерти героя, когда гибнет живая, искренняя, любопытная, любящая душа внутри тряпичного человечка.
Константин Семёнов использует малых кукол как сущностное добавление, вводит с их помощью мотив наличия души и заставляет думать, почему у одних персонажей сразу есть искусственные пары, а у других нет. Тонко сработанные куклы Никонова — такие же персонажи, как и привычные герои оригинального либретто. У них нет имён в афишке, но есть значимая роль в замысле, — и они органично вливаются в мир «Петрушки», помогают ответить на его ключевые вопросы: кто такие ярмарочные куклы в этом балете, в чём коллизия сюжета и трагедия Петрушки.
В «Жар-птице», напротив, куклы не становятся ни частью концепции, ни даже частью именно этого спектакля. Виктор Никонов создал для постановки Кирилла Радева анималистичную Жар-птицу, которая эффектно проносится над сценой на тростях. Она прилетела в МАМТ не из-за моря, а всего лишь преодолев пару городских кварталов, из театра Образцова. Там она, в несколько ином виде, обитала в «Рождественской истории» Алексея Франдетти и имела ту же декоративную функцию: поразить красивой проходкой. Функционально у появления куклы есть объяснение — это предвестие Жар-птицы, её пернатая форма. Любители фантастики и превращений могут придумать теорию, зачем в спектакле нужна птица-птица и птица-девушка, однако ответ может быть и проще. Куклу надо было задействовать, Радеву она концептуально не требовалась, Франдетти взял собственную наработку из другой постановки. Вот вам и полёт кукольной валькирии над пылающим городом.
Константин Семёнов использует малых кукол как сущностное добавление, вводит с их помощью мотив наличия души и заставляет думать, почему у одних персонажей сразу есть искусственные пары, а у других нет. Тонко сработанные куклы Никонова — такие же персонажи, как и привычные герои оригинального либретто. У них нет имён в афишке, но есть значимая роль в замысле, — и они органично вливаются в мир «Петрушки», помогают ответить на его ключевые вопросы: кто такие ярмарочные куклы в этом балете, в чём коллизия сюжета и трагедия Петрушки.
В «Жар-птице», напротив, куклы не становятся ни частью концепции, ни даже частью именно этого спектакля. Виктор Никонов создал для постановки Кирилла Радева анималистичную Жар-птицу, которая эффектно проносится над сценой на тростях. Она прилетела в МАМТ не из-за моря, а всего лишь преодолев пару городских кварталов, из театра Образцова. Там она, в несколько ином виде, обитала в «Рождественской истории» Алексея Франдетти и имела ту же декоративную функцию: поразить красивой проходкой. Функционально у появления куклы есть объяснение — это предвестие Жар-птицы, её пернатая форма. Любители фантастики и превращений могут придумать теорию, зачем в спектакле нужна птица-птица и птица-девушка, однако ответ может быть и проще. Куклу надо было задействовать, Радеву она концептуально не требовалась, Франдетти взял собственную наработку из другой постановки. Вот вам и полёт кукольной валькирии над пылающим городом.
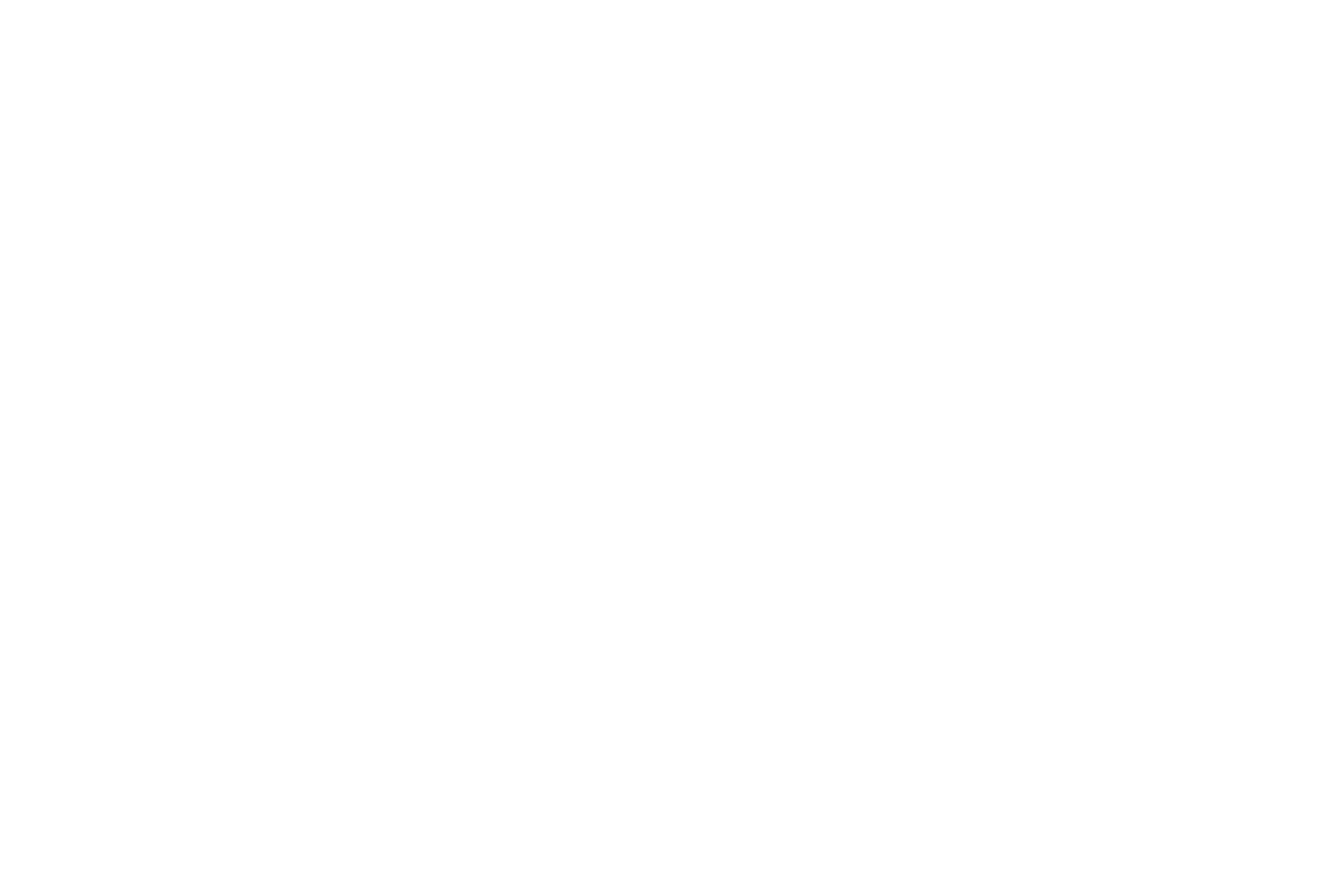
Кукушечка полетела
Необязательность решений, впечатление, что на месте одной идеи могла быть любая другая с тем же воплощением, — одно из ключевых свойств мамтовской «Жар-птицы».
Почему главный герой именно архитектор, как это комментирует оригинальный сюжет? Нипочему. Мысль зарифмовать мотив огня, опасного мифического существа, и современного понятия «выгорание», его эффектов (кто из нас не дорабатывался до мелких галлюцинаций и горячечных снов наяву и по ночам), безусловно, остроумная — и снимает необходимость объяснять природу сказочной гостьи. Превращать волшебные сущности в явления, которые легко объяснить рационально (например, от перенапряжения мерещится всякая дрянь), ход на музыкальной сцене не новый, но всё ещё неплохо работающий.
В то же время очень определённая профессия героя тут скорее мешает всем сторонам. Что такого особенного именно в архитекторах — помимо джинсово отрекламированного в около-культурных телеграм-каналах сотрудничества театра с крупным московским застройщиком, чей объект становится частью видеопроекции и сгорает ко всем чертям, подобно булгаковской Москве? Как архитекторы должны танцевать, нужна ли им какая-то особая пластика? Видят ли архитекторы, раз Жар-птица — плод воображения главного героя Ивана, результат выгорания, какие-то особые кошмары?
Спектакль не даёт ответов и, пожалуй, дать их не может. Потому что их не существует.
В то же время очень определённая профессия героя тут скорее мешает всем сторонам. Что такого особенного именно в архитекторах — помимо джинсово отрекламированного в около-культурных телеграм-каналах сотрудничества театра с крупным московским застройщиком, чей объект становится частью видеопроекции и сгорает ко всем чертям, подобно булгаковской Москве? Как архитекторы должны танцевать, нужна ли им какая-то особая пластика? Видят ли архитекторы, раз Жар-птица — плод воображения главного героя Ивана, результат выгорания, какие-то особые кошмары?
Спектакль не даёт ответов и, пожалуй, дать их не может. Потому что их не существует.
Алексей Франдетти как режиссёр и автор либретто выстраивает свою конструкцию, пригодную скорее для драматического, оперного и мюзикльного театра, чем для танца. Кирилл Радев не получает достаточно материала для хореографии и явно теряется, начинает воспроизводить самого себя. Если к главному герою постановки прилетает, чтобы потом хорошенько отлететь, кукушечка-Жар-птица, то к Радеву прилетело самоцитирование, причём не в лучшей форме. Пластически «Жар-птица» слишком напоминает «Смерть и девушку» из Нижнего Новгорода, где хореограф также заполнял слишком пустой объём хоть чем-то. Однако то, насколько однообразна пластика и внутри самого спектакля, и относительно других работ Радева, заставляет задуматься: а главный ли герой выгорел.
Тут можно рассуждать, где проходит граница между манерой и самоповтором — и с сожалением констатировать, что нет палат мер и весов, где хранился бы эталон хореографа с подробно разработанным индивидуальным языком и хореографа с небольшим лексическим запасом, и прокладывает эту самую границу каждый анализирующий в меру вкуса, произвола и, как в шутке о плагиате и цитате, в зависимости от степени симпатии к типу движения и автору. Можно обсуждать теневые стороны резкого перехода на собственное производство после февраля 2022 года, когда театры, даже имеющие средства на приглашения, почти лишились доступа к ним, а главными вынужденно стали местные хореографы, нагрузка большинства из которых была несоизмеримо меньше, — например, то, что театры не всегда готовы рискнуть и вложиться в человека без большого послужного списка, и выходит, что небольшое количество людей ставят везде и в близкие или накладывающиеся сроки. Можно рассуждать, что русскоязычная система оценки спектаклей не включает понимание, что не любая постановка этапна, должна быть идеальной по всем параметрам, которые держат в голове рецензенты. И всё же — «Жар-птица», если видеть её как новое звено в цепочке работ Кирилла Радева для российских театров, страдает в первую очередь от повторного использования авторских находок, которые не образуют систему устойчивых знаков, и несоответствия мысли и хронометража: даже интересные движения, которые сочинил или даже повторил Радев, многократно возвращаются и превращаются в «подождите, я не договорил».
Тут можно рассуждать, где проходит граница между манерой и самоповтором — и с сожалением констатировать, что нет палат мер и весов, где хранился бы эталон хореографа с подробно разработанным индивидуальным языком и хореографа с небольшим лексическим запасом, и прокладывает эту самую границу каждый анализирующий в меру вкуса, произвола и, как в шутке о плагиате и цитате, в зависимости от степени симпатии к типу движения и автору. Можно обсуждать теневые стороны резкого перехода на собственное производство после февраля 2022 года, когда театры, даже имеющие средства на приглашения, почти лишились доступа к ним, а главными вынужденно стали местные хореографы, нагрузка большинства из которых была несоизмеримо меньше, — например, то, что театры не всегда готовы рискнуть и вложиться в человека без большого послужного списка, и выходит, что небольшое количество людей ставят везде и в близкие или накладывающиеся сроки. Можно рассуждать, что русскоязычная система оценки спектаклей не включает понимание, что не любая постановка этапна, должна быть идеальной по всем параметрам, которые держат в голове рецензенты. И всё же — «Жар-птица», если видеть её как новое звено в цепочке работ Кирилла Радева для российских театров, страдает в первую очередь от повторного использования авторских находок, которые не образуют систему устойчивых знаков, и несоответствия мысли и хронометража: даже интересные движения, которые сочинил или даже повторил Радев, многократно возвращаются и превращаются в «подождите, я не договорил».
Отдельные вопросы оставляет большая секвенция «страшного сна», центральный аттракцион постановки. Он заменяет фокинское Кощеево царство — но лишь механически. Если не присматриваться, и там, и там возникает параллельное, страшное пространство, которое угрожает герою и из которого требуется выбраться. Но если Кощей у Фокина вписан в историю, связан с путешествием героя и его трансформацией, то мир сна в франдеттиевско-радевской «Жар-птице» возникает сам по себе. Кукушечка летала-летала и долеталась до белочки.
Возникающие в этом сегменте персонажи, живые и механические, напоминают разом фигуры из какой-нибудь комнаты ужасов, отголоски воландовской банды, которая проверяет москвичей на вшивость, и парад разномастных балетных злодеев. Из-за довольно абстрактного либретто понять, что в этом месте творится, невозможно, причём, судя по хореографии, и постановщику тоже, — хотя впечатление остаётся, безусловно, сильное и мемоёмкое. Эта сцена, как и другие, существует вне логики истории — если эта логика в принципе есть.
В результате обновлённая «Жар-птица» распадается на куски, каждый из которых можно прикрепить к общему замыслу, но не собрать целое. Зачем архитектура? Зачем птица-девушка? Зачем царство кошмаров? Зачем полыхает город? Зачем булгаковские аллюзии? Зачем шутки или как-бы-шутки на тему грубых и не очень выражений о пылающем чём-то? Зачем это всё двигается как драматический контемпорари дэнс и похоже на другие постановки Радева? А кукушечка дальше полетела, не ответит.
Возникающие в этом сегменте персонажи, живые и механические, напоминают разом фигуры из какой-нибудь комнаты ужасов, отголоски воландовской банды, которая проверяет москвичей на вшивость, и парад разномастных балетных злодеев. Из-за довольно абстрактного либретто понять, что в этом месте творится, невозможно, причём, судя по хореографии, и постановщику тоже, — хотя впечатление остаётся, безусловно, сильное и мемоёмкое. Эта сцена, как и другие, существует вне логики истории — если эта логика в принципе есть.
В результате обновлённая «Жар-птица» распадается на куски, каждый из которых можно прикрепить к общему замыслу, но не собрать целое. Зачем архитектура? Зачем птица-девушка? Зачем царство кошмаров? Зачем полыхает город? Зачем булгаковские аллюзии? Зачем шутки или как-бы-шутки на тему грубых и не очень выражений о пылающем чём-то? Зачем это всё двигается как драматический контемпорари дэнс и похоже на другие постановки Радева? А кукушечка дальше полетела, не ответит.
Птица — хот
Итак, современная Москва в лице строящегося элитного ЖК сгорела в результате визита Жар-птицы, то есть слишком интенсивной работы и ментального слома архитектора Ивана. Если для вас это — достаточно драматичный финал, повод поаплодировать и закончить вечер, то вы думаете не как команда спектакля. У Радева после всех огневых приключений героев ещё осталась неосвоенная музыка (Стравинский слишком велик для купирования). Поэтому в оставшееся время хореограф решил сжечь ещё и оригинальный балет «Жар-птица».
Буквально. Гаснет современная картинка, спускается экран, за ним возникают Иван и Жар-птица в пронзительно-красных кафтане и пачке, танцуют часть фокинского па-де-де, ту, где птица уже попалась, ещё сопротивляется, но не слишком. Всё это в рисованных, полумультяшных языках пламени, которые то ли окружают пару, то ли, наоборот, бьют из-под ног артистов. Сгорает фокинское наследие вместе с очередным элитным ЖК или же сияет вечным обжигающим светом, выбор, видимо, зрительский.
Ход в определённом смысле остроумный. Визуально эпизод сделан амбивалентно, так, что останутся довольны примерно все зрители, опознавшие хореографию. Для тех, кто за современную хореографию — напоследок уничтожили ещё и затхлый старый балет, нелепый, слишком сказочный и пафосный. Для тех, кому важны отношения между персонажами и их связь с реальностью, — в пламени остался явно не самый прогрессивный не только пластически, но и этически балет Фокина, главная героиня которого более-менее в сжатом до одного акта формате повторяла судьбу и образ пассивной старинной Одетты, девушки в беде. Те же, кому было мучительно смотреть на сочинение Радева как на слишком современное и посягающее, отдохнули глазами с мыслью «нет, Фокин, конечно, не великий, но ремесло не пропьёшь, умели».
Ход в определённом смысле остроумный. Визуально эпизод сделан амбивалентно, так, что останутся довольны примерно все зрители, опознавшие хореографию. Для тех, кто за современную хореографию — напоследок уничтожили ещё и затхлый старый балет, нелепый, слишком сказочный и пафосный. Для тех, кому важны отношения между персонажами и их связь с реальностью, — в пламени остался явно не самый прогрессивный не только пластически, но и этически балет Фокина, главная героиня которого более-менее в сжатом до одного акта формате повторяла судьбу и образ пассивной старинной Одетты, девушки в беде. Те же, кому было мучительно смотреть на сочинение Радева как на слишком современное и посягающее, отдохнули глазами с мыслью «нет, Фокин, конечно, не великий, но ремесло не пропьёшь, умели».
Но в том же смысле идея как бы сжечь предшественника, но вежливо и так, чтобы на всякий случай это выглядело и как дань уважения или «ода русскому балету», — полумера. «Жар-птице» не хватает определённости оптики команды, сформулированного понимания, происходит ли всё на сцене всерьёз или это одна большая шутка. В финале это видно лучше всего.
Сжечь юбиляра ко всем праотцам — жест. Спорный, но яркий. Сказать «к чёрту, Фокин всё равно лучше» — тоже. Однако между этими опциями стоило бы сделать выбор. Его нет. А осторожность в балете о том, как всё тонет в огне, вероятно, самая слабая опция. Птица прилетела, но не совсем.
Сжечь юбиляра ко всем праотцам — жест. Спорный, но яркий. Сказать «к чёрту, Фокин всё равно лучше» — тоже. Однако между этими опциями стоило бы сделать выбор. Его нет. А осторожность в балете о том, как всё тонет в огне, вероятно, самая слабая опция. Птица прилетела, но не совсем.
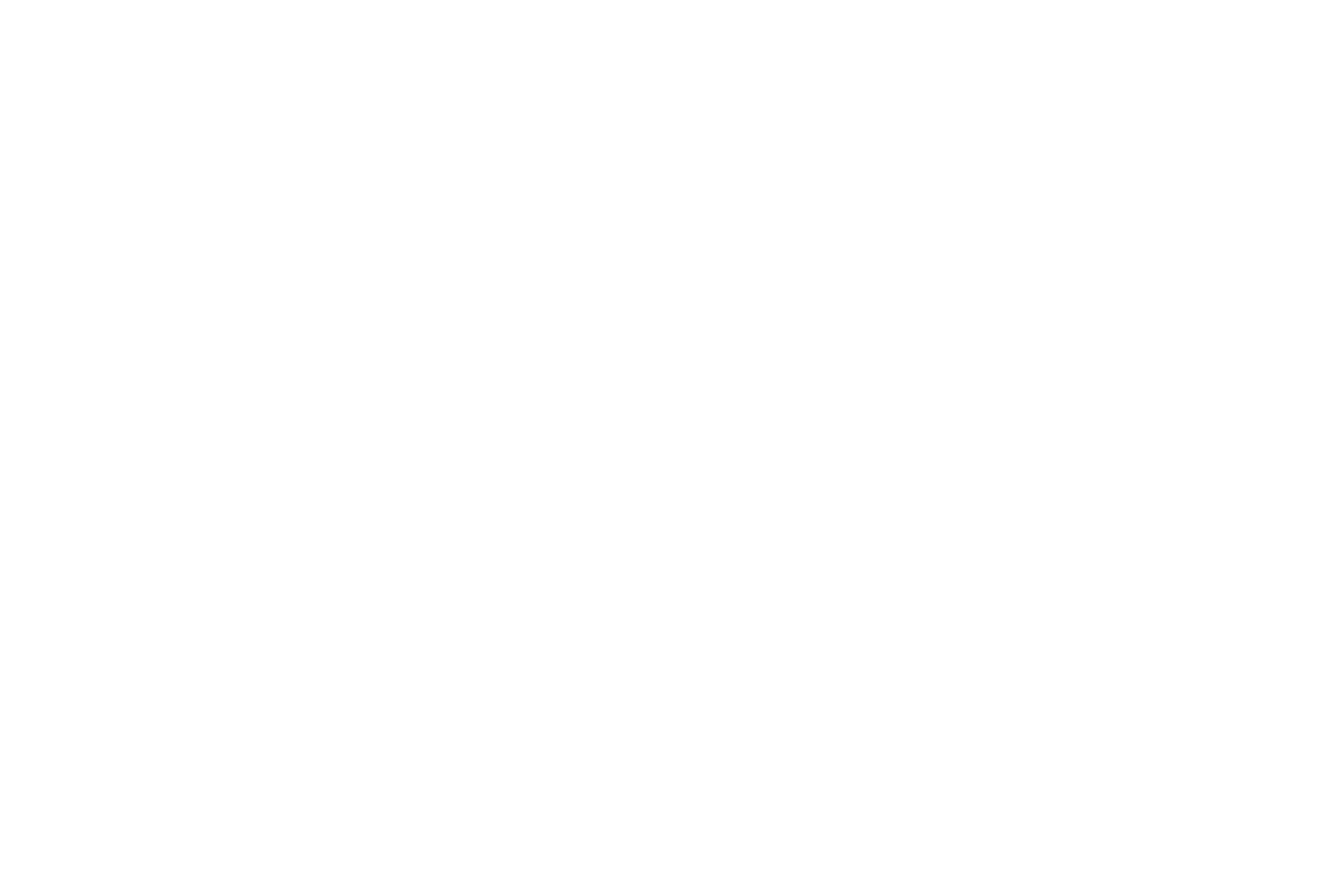
Сны критика под мелатонином в сезон премьер
или Балет-мем
Впрочем, есть и ещё одна опция: всё это — один большой мем. Причём не докинзовский в строгом смысле, а интернет-мем. Бишь смешная, вирусная или цепляющая («отзывается») картинка или фраза, которая в концентрированном виде выражает какую-то, возможно, не до конца даже артикулируемую мысль. Мемы, которые мы кидаем друг другу в чатиках, хороши своей многозначностью и, в определённом роде, внутренней незаполненностью. Это яркая форма, в которую можно вложить индивидуальное содержание, что и обеспечивает во многом её распространяемость.
Мамтовскую «Жар-птицу» легко при желании растащить на отдельные сцены, к которым можно сделать миллион смешных подписей. Тот же Иван-архитектор бьётся головой о стол — «сегодня тридцать пять дедлайнов», «метеозависимые, когда вчера было +25, а сегодня 0», а, может, «проверяю икеевский стол с авито». На сцену въезжает многотрубчатый робот, перед которым танцует Жар-птица, шланги душат Ивана, а сзади всё пылает — «наш офис перед НГ» или, что было особенно актуально в апреле 2025 года для людей, связанных с танцем и письмом, «на уикенд опять поставили восемь премьер в пяти городах».
Условные подписи здесь не важны; важно, что театр производит то, что скорее можно назвать контентом, и он достаточно запоминается, чтобы апеллировать к разным людям и выходить за границы балетного спектакля. «Жар-птица» во многом — балетный аналог паблика «Рживопись»: пространство, где условное Высокое Искусство снимается с пьедестала, становится немного нелепым (сжигать Фокина? серьёзно? а, с другой стороны, вы давно пробовали смотреть это ощипанное «Лебединое» а ля рюс не как признанный шедевр из прошлого? получилось?) и оттого оживает, становится суггестивным. У всех свои причины завязаться в узел в офисе и спалить что-нибудь.
Мамтовскую «Жар-птицу» легко при желании растащить на отдельные сцены, к которым можно сделать миллион смешных подписей. Тот же Иван-архитектор бьётся головой о стол — «сегодня тридцать пять дедлайнов», «метеозависимые, когда вчера было +25, а сегодня 0», а, может, «проверяю икеевский стол с авито». На сцену въезжает многотрубчатый робот, перед которым танцует Жар-птица, шланги душат Ивана, а сзади всё пылает — «наш офис перед НГ» или, что было особенно актуально в апреле 2025 года для людей, связанных с танцем и письмом, «на уикенд опять поставили восемь премьер в пяти городах».
Условные подписи здесь не важны; важно, что театр производит то, что скорее можно назвать контентом, и он достаточно запоминается, чтобы апеллировать к разным людям и выходить за границы балетного спектакля. «Жар-птица» во многом — балетный аналог паблика «Рживопись»: пространство, где условное Высокое Искусство снимается с пьедестала, становится немного нелепым (сжигать Фокина? серьёзно? а, с другой стороны, вы давно пробовали смотреть это ощипанное «Лебединое» а ля рюс не как признанный шедевр из прошлого? получилось?) и оттого оживает, становится суггестивным. У всех свои причины завязаться в узел в офисе и спалить что-нибудь.
Главный вопрос — насколько это сознательный процесс. Потому что есть люди, которые постят, например, мем про язя, видя в нём множество подтекстов. А есть мужик, который сходил на рыбалку, вернулся с хорошим уловом, выложил в сеть свою искреннюю, что важно, реакцию, и стал мемом не потому, что сознательно конструировал ситуацию, а потому, что наивен и «зашёл» другим. Так незло смешон искренний пафос.
В случае с МАМТом, который уже несколько сезонов производит балетные мемы, всё ещё остаётся неясным: стратегия ли это или кристальная наивность, которая может попасть в концептуальную рамку саркастического взгляда и выглядеть как жест.
С одной стороны, для коллектива, который возглавляет, как любили ещё недавно активно подчёркивать, «один из самых молодых руководителей труппы в истории мирового балета», логично разговаривать на языке поколения того самого молодого руководителя — бишь поздних миллениалов-ранних зумеров. С другой, МАМТ не маркирует явно своё желание (если оно есть) быть балетом для молодых. Балет для людей, для которых танцы — повод сделать пост в соцсетях? Да. Балет как пространство, где говорят принципиально иным, нежели раньше (а у нас большой провал в поколениях, лет 10−15), языком? Неясно.
Выбрать первый вариант было бы отличным дополнением к существующей стратегии. Виральность, конечно, вещь естественная и непосредственная, загадочная, как любая работа. Но у неё есть и свои законы — которые, при желании, МАМТу явно под силу оседлать, если приложить направленные усилия.
В случае с МАМТом, который уже несколько сезонов производит балетные мемы, всё ещё остаётся неясным: стратегия ли это или кристальная наивность, которая может попасть в концептуальную рамку саркастического взгляда и выглядеть как жест.
С одной стороны, для коллектива, который возглавляет, как любили ещё недавно активно подчёркивать, «один из самых молодых руководителей труппы в истории мирового балета», логично разговаривать на языке поколения того самого молодого руководителя — бишь поздних миллениалов-ранних зумеров. С другой, МАМТ не маркирует явно своё желание (если оно есть) быть балетом для молодых. Балет для людей, для которых танцы — повод сделать пост в соцсетях? Да. Балет как пространство, где говорят принципиально иным, нежели раньше (а у нас большой провал в поколениях, лет 10−15), языком? Неясно.
Выбрать первый вариант было бы отличным дополнением к существующей стратегии. Виральность, конечно, вещь естественная и непосредственная, загадочная, как любая работа. Но у неё есть и свои законы — которые, при желании, МАМТу явно под силу оседлать, если приложить направленные усилия.
«Герой нашего времени» Ильи Демуцкого, 2015 год, Большой театр; «Нуреев» Ильи Демуцкого, 2017 год, Большой театр.
2021 год, МАМТ. Первый полнометражный балет Максима Севагина.
«Чайка» Ильи Демуцкого, 2021 год, Большой театр.
Семёнов поступил в труппу МАМТ в 2003 году, был среди первых исполнителей партий в балетах Джона Ноймайера и Иржи Киллиана, которые появились в театре при содействии Ирины Черномуровой.
Часть вечера «Горький. Балет», Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, 2024 год.
Михаил Фокин, постановщик первой версии «Жар-птицы», был её же сценаристом, причём либретто появилось раньше, чем музыка, и Игорь Стравинский работал с готовым планом.
В 2016 году в рамках проекта “Точка пересечения» Константин Семёнов выпустил на Малой сцене МАМТа «Вариации и квартет», в 2023 году там же балет «Зазеркалье».
Премьера «Петрушки» Владимира Варнавы в 2017 году прошла в Перми на Дягилевском фестивале и в Мариинском театре; “чёртова клоунада» — авторское определение хореографа.
2018, Большой театр, мировая премьера.
«Петрушку» Йохан Ингер поставил для Балета Монте-Карло в 2018 году; в 2019 году спектакль показывали в Петербурге в составе вечера «Посвящение Нижинскому» в рамках фестиваля “Дягилев P. S.”
Главным адептом этого метода можно назвать оперного режиссёра Дмитрия Чернякова, фирменный приём которого — поиск рационального решения любых мистических, волшебных, мифологических ходов, похожий на то, как в новых хоррорах все монстры превращаются в плоды неврозов или последствия психологических травм.
Чем отличается цитата от плагиата? Тем, насколько оценивающим нравится автор постановки.
Британский учёный и популяризатор науки Ричард Докинз в 1976 году предложил в своей книге «Эгоистичный ген» термин «мем» в понимании «единица значимой для культуры информации, которая, осознанно или нет, передаётся от человека к человеку».
В материале использованы фотографии Александра Филькина